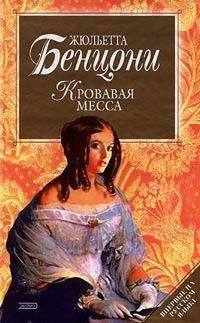Я вскочил. Мускулы лица исказились до боли, и широко раскрывшиеся глаза мучительно хотели выпрыгнуть из орбит:
Там, в углу, стоял я сам, с револьвером у лба, и говорил с торопливой, лихорадочной поспешностью:
Ты этого не сделаешь! ты этого не сделаешь! нет, ради Бога, нет, ты этого не сделаешь!
Я глубоко вздохнул:
Боже, ведь ничего, ничего не случилось, — это было только мое пальто, висевшее на гвозде.
Я лег, окончательно измученный, снова встал, взял голову в руки и вцепился в нее так крепко, что мне стало даже больно кожу.
Возникали бессознательные, банальные, непроизвольные ассоциации; волна прилива раздробилась на отдельные капли, которые вытягивались, как будто они падали из пипетки, и снова исчезали — раз, два, три, четыре; я сосчитал их все, и у меня было ощущение бульканья.
Лишь одно мелькало, пробивалось среди дикого наплыва мыслей:
Этого ты не сделаешь!
И эта мысль начала удить в мутном потоке, и кокетничала до тех пор, пока не попалась на приманку новая мысль:
— Да, и все-таки — ты это именно и сделаешь!
И обе мысли сходились все ближе и ближе, обнялись, уселись на свои хвосты, высоко поднялись, и переплелись, и с далеко закинутыми назад головами смотрели они в упор друг на друга, — долго, испытующе, и затем лукаво усмехнулись глазами друг другу.
Да, и потом — кончено.
Судьба моя была решена.
Так буду я стоять, держать пистолет, лихорадочно говорить: — ты этого не сделаешь! ты этого не сделаешь! — и сейчас же толчок, свет страшного суда в глазах, треск — и кончено.
Дрожь пробежала по моему телу, сердце билось неравномерно, и в висках кровь с бешеной скоростью стучала о мои прижатые руки.
Беспокойства росло, невыносимый страх стягивал и распускал замкнутый круг моих мыслей, что-то толкало меня на подушки, тело мое невольно сгибалось, чтобы поддаться этому, но я вдруг почувствовал сопротивление, с трудом, болезненно выпрямился и — погрузился в себя.
Я размышлял; упорно, тупо, бессмысленно.
Я знал только, что должен с чем-то покончить, до конца продумать что-то, перед чем я чувствовал ужасный страх.
Вдруг я в смертельном ужасе обеими руками схватился за край постели: по полу полз, расходясь, луч света.
Испуг был так силен, что я на мгновение потерял сознание.
Когда я пришел в себя, то подумал, что, вероятно, в противоположном доме зажгли лампу.
Чувство бесконечного облегчения охватило меня; я стал почти весел.
Но потом я подумал, что я лишь потому стал весел, что луч света разбил мою волю, которая хотела сосредоточиться на чем-то другом.
Холодный пот выступил у меня на лбу; чувство, что я снова должен отдаться этой муке, с возрастающим страхом пожирало мой мозг.
Я с трудом, с тяжелой головой, сполз с постели; от головокружения я едва не упал на пол, я сел на край постели, оперся локтями в колени, положил голову на руки и предоставил крови свободно приливать к мозгу.
Невыразимое сожаление овладело мной; горячие крупные слезы катились по моим щекам, и мне казалось, будто по ногам у меня что-то сбегает — меня, наверное, знобило. Тогда я не мог придумать, что бы это было; да и мне было все равно — о, да.
Я плакал вовсе не слезами освобождения, я плакал и пел: пел, как дикий индийский вождь на краю собственной могилы поет унылую погребальную песнь.
Сколько времени я так сидел, не знаю.
Вдруг я ощутил леденящее чувство; после долгого раздумья я проецировал это чувство холода в подошвы.
И вот я встал и почувствовал какое-то желание.
Ах, да!
Я искал папиросу.
И, казалось, все прошло.
Я закурил папиросу, оделся, открыл окно, и долго, долго, в величественном, сверхчеловеческом покое стоял у окна.
Я ни о чем не думал; я только поднимался все выше, все шире, в грандиозном величии моего покоя, в мрачном, маниакальном, могучем желании гибели.
Воспоминание детства вдруг выплыло у меня в мозгу.
Я видел себя в деревенской церкви. Было совсем темно. Свечи горели тусклым пламенем, как воспаленные глаза, и тщетно старались пронизать густое покрывало ладана, которым ксендз курил пред святым ковчегом. Свет свечей пробивался до половины, потом таял, пропитывал и насыщал облака ладана светлым золотом.
Какая-то заразительная болезнь унесла половину деревни, и народ каждый вечер собирался в церкви, бросался на колени и в избытке страдания, обливаясь потом смертельного страха, взывал к Богу.
И тогда поднималось дикое стонущее пение, в котором сердце в кровавых судорогах рвалось из тела, хриплое пение, которое грубое, физическое желание жизни распростирало как лавину над исполинской равниной, каждое мгновение готовую раздавить и похоронить под собою всю толпу.
И к земному, наводящему ужасу припеву «Господи, спаси нас!» примешивался звон колокола и шум органа, страх судного дня и нечеловеческий вопль одержимых болезнью — и вдруг народ, в диком отчаянии, начал громко, безумно рыдать, ломать руки, колотить себя в грудь и кричать, кричать непрерывно, в мучительной агонии смертельного страха, — к Богу.
И когда старый, седой ксендз охватил обеими руками алтарь, и рыдания потрясали его тело, тогда неописуемое массовое безумие овладело народом.
Я слышу еще ревущий вой голосов; я вижу сатанинскую вальпургиеву ночь с неслыханными пытками страха.
Меня охватил невыносимый ужас перед этой обнаженной жаждой жизни, ужас перед этим эпилептическим страхом смерти, и я невольно, оцепенело дрожа, повторял, не переставая:
Боже, спаси нас!
Над народом царил, жестоко усмехаясь, ангел смерти и тех, которые должны были умереть, отмечал пламенным мечом.
Был ли я в числе их?
Из моего горла с трудом рвется страстно, вспыхивающее последней искрой жажды жизни:
Боже, спаси нас!
Для меня нет спасения.
И я снова успокаиваюсь.
Я взглянул на землю; она спала. Я взглянул на небо; оно было тихо.
Невыразимое чувство разлилось во мне пред этой могильной тишиной, перед этим широким кладбищенским покоем.
Это было мгновение, когда как будто невидимые руки ксендза вынули Святая Святых из Дарохранилища природы и показали его миру. Он в оцепенелом благоговении падает ниц пред его ликом: полный ожидания, с тихим трепетом, в святом восторге, он смутно чует, что наступил мистический момент, когда хлеб превращается в Тело и вино в Кровь.
Теперь трижды должны были прозвучать колокола, теперь должен был подняться тихий, горячий шепот сдавленных голосов толпы и содрогание должно было пробежать по вселенной, как будто бы миллионы людей били себя в грудь: