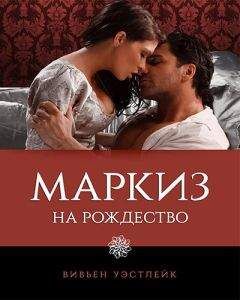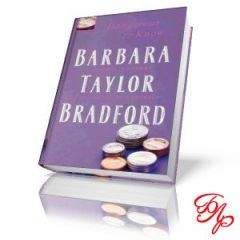Кит не мог и шагу ступить без опеки слуг. Хотел пить — они приносили воды. Мерз — к нему снаряжали горничную с ворохом пледов и шерстяных одеял. Просил эля или глоток чертова виски — этим его обеспечивал Эйвери.
Все остальное было под запретом. Он не мог выйти на свежий воздух. Не мог надеть сюртук и брюки, спуститься вниз и, как все нормальные люди, позавтракать за столом. Нет, он был прикован к идиотской постели. Два раза он рвал в клочья подушки, засыпая комнату пухом, но ничего этой выходкой не добился, кроме ощущения, будто голова его начала разламываться на куски.
Единственным лучом света в этом кошмаре была она. Его нежная, утонченная Вайолет. Один взгляд, одно прикосновение, одно мягкое слово — и он превращался в ее ручную собачку. Обычно она появлялась по утрам, во время завтрака. Иногда заходила на ужин или дневной чай.
Без ее регулярных визитов он бы точно кого-нибудь прикончил. А именно болвана-доктора, по настоянию которого он валялся в постели как инвалид.
Голова болела поистине адски. Почти постоянно. Кроме моментов, когда приходила она, и желание заняться с нею любовью отвлекало его от боли. Теперь он жил ради ее улыбки, ради ее смеха, ради возможности пусть ненадолго, но ощутить тепло ее рук. Он соревновался сам с собой за ее внимание.
Сегодня она тоже заглянула на завтрак, но вместо часа задержалась всего на пятнадцать минут, а после ушла, оставив его надеяться, что днем она вернется и выпьет с ним чаю. Кит мог послать за ней, но не делал этого. Вдруг она подумает, что ему стало плохо. Ему и впрямь было плохо, но, черт подери, сколько можно держать его за ребенка. Он весь извелся, сидя взаперти, когда единственным его развлечением был пересчет цветочных узоров на серых обоях.
Кит прошелся по комнате — в рубашке навыпуск и брюках, которые он изредка надевал, хоть и не мог никуда выходить. Изо дня в день носить ночную сорочку и халат было невыносимо, как и видеть окружающую обстановку. Эту комнату с большой дубовой кроватью, старый полированный столик на одной ноге со следами зубов какого-то пса, гардероб с восточным орнаментом, красно-синий индийский ковер и массивный сундук, обитый потертой черной кожей, который он как-то раз попытался открыть и не смог. Единственным, что вносило оживление в этот однообразный пейзаж, было переменчивое зимнее небо, видневшееся за большим окном — серебристо-белое днем, синее по вечерам и угольно-черное ночью.
Что, если он проторчит здесь еще несколько недель? Так и помешаться недолго. Трижды Кит предпринимал попытки сбежать, но ни разу ему не удавалось зайти дальше парадного входа. Если бы не присмотр Эйвери, который следил за ним ястребиным взором, и не его собственное нежелание покидать Вайолет, он бы улизнул в предрассветные часы, когда прислуга спала.
Но кроме Вайолет, у него не было никого. Воспоминания возвращались обрывками, которых было недостаточно, чтобы сложить картину прошлого целиком. Он помнил лицо сестры, но как найти ее — и откуда вообще начинать поиски? Можно, конечно, уехать. Поселиться в гостинице и наобум пытаться разузнать что-нибудь о себе, однако всякий раз, когда Кит прокручивал этот план в голове, перед его глазами появлялось лицо Вайолет.
«Я могу уйти в любое время», — в итоге решил он для себя. — «Просто пока я этого не хочу».
Он стоял у окна, наблюдая за плывущими по небу облаками, как вдруг услышал шаги. Обернулся и увидел Вайолет. На ней было утреннее платье из белого жаккардового атласа с желтой отделкой, оттенявшей ее зеленовато-карие глаза.
— Вы выглядите просто прелестно.
— А вы, смотрю, опять встали с постели.
— Я буду счастлив вернуться обратно, если вы посидите рядом.
Вытянув руку, она жестом велела ему лечь.
Он растянулся на кровати и усмехнулся.
— Довольны?
— Жара нет? — Она дотронулась до его щеки. Он повернулся и поцеловал ее руку.
— Есть. Когда ко мне прикасаетесь вы.
Ее губы дрогнули, но так и не сложились в улыбку.
— Думаю, этот жар не опасен.
— Вы две недели ежедневно проверяете мое самочувствие. Когда меня, наконец, выпустят из этой тюрьмы?
— Посмотрим, что скажет доктор Литтлтон.
— Он не врач, а мошенник. С него станется продержать меня в кровати полгода. Я здоров.
— У вас прошли синяки, чего, увы, нельзя сказать о ране на голове. Есть риск занести инфекцию. Что, если память к вам не вернется?
«Тогда я останусь с тобой». Лучше быть в одном доме с ней — пусть и своего рода пленником, — чем с Изабеллой. Вслух он этого не сказал. Если он обмолвится о сестре, Вайолет поймет, что память о прошлом постепенно начала возвращаться.
— Вернется. — Он придвинулся к ней. — Давайте выйдем, неважно куда. Дьявол, я согласен даже на прогулку вниз по лестнице. Мне нужно сменить обстановку.
Она оставила ругательство без внимания. Он чертыхался в ее присутствии не в первый раз и — тут он был готов поручиться — не в последний.
— Прежде всего вам нужен полный покой. Потерпите еще немного. Дайте себе время поправиться.
— Миледи, — он очертил пальцем контур ее щеки, — поверьте, целыми днями лежать неподвижно в постели — настоящая пытка. — Он наклонился ближе. — Но если вы ляжете рядом, она станет неземным удовольствием.
Не в силах совладать с собой, он приник к Вайолет и вдохнул аромат ее густых, темных волос, мечтая повытаскивать шпильки и зарыться в шелковистые пряди лицом. Волосы женщины должны струиться подобно морским волнам — свободно и неукротимо.
У нее перехватило дыхание. Он положил ладонь на ее затылок и притянул к себе. Скользнул губами по шее и ощутил частое биение пульса.
С каждым ее прерывистым вздохом его желание распалялось все сильнее. Обещание страсти, которую они могли познать в объятьях друг друга — вот почему он подчинялся ее приказам, вот почему не спешил уезжать.
Она ничем не походила на расчетливых женщин, с которыми он обычно делил постель, равно как и на одну из тех наивных кокеток, что пытались заманить его в брачную сеть. Вайолет Лоренс была совершенно другая. Такую он еще не встречал.
Что-то замаячило на границе его сознания, какое-то воспоминание, но при попытке ухватиться за него, оно ускользало, точно струящийся сквозь пальцы песок.
Эта очаровательная женщина искушала его больше, чем кто бы то ни было прежде. Рядом с нею все остальное уходило на второй план. Мир, в котором был ее голос, ее ласки, ее взгляд, был единственным, в котором ему хотелось существовать.
Он отпустил ее и чуть отстранился — не больше, чем на расстояние пальца от кончика ее носа.