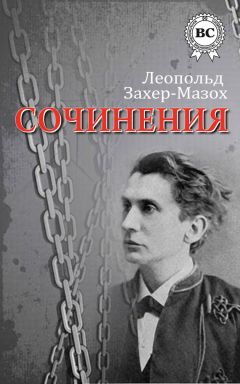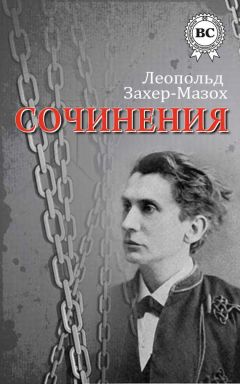На волосах, собранных в античный узел, сидела маленькая темная меховая шапочка, с которой ниспадала повязанная вокруг нее черная вуаль.
Ванда была очень хорошо настроена, шаловливо клала мне конфеты в рот, причесывала меня, развязывала мне галстук, повязывала снова прелестной маленькой петлей, набрасывала мне на колени шубку и под ней украдкой сжимала мои пальцы, а когда наш возница-еврей заклевал носом, она даже поцеловала меня – и холодные губки ее дышали свежим, морозным ароматом – словно юная роза, расцветшая осенью среди пожелтелых листьев и совсем обнаженных стеблей, чашечку которой первая изморозь покрыла мелкими ледяными бриллиантами.
* * *
Вот и железнодорожная станция. У вокзала мы вышли из коляски. Ванда с обворожительной улыбкой сбросила с плеч мне на руки шубу и потом пошла позаботиться о билетах.
Когда она вернулась, она переменилась неузнаваемо.
– Вот тебе билет, Григорий, – проговорила она таким тоном, каким говорят надменные барыни со своими лакеями.
– Третьего класса?! – воскликнул я с комическим ужасом, взглянув на билет.
– Конечно. Вот что не забудь: ты сядешь в вагон только тогда, когда я совсем устроюсь в купе и ты мне больше не будешь нужен. На каждой станции ты должен входить в мой вагон и спрашивать, не будет ли каких приказаний. Смотри же, запомни все это. А теперь подай мне шубку.
Когда я смиренно, как раб, помог ей надеть шубку, она позвала меня с собой, чтоб отыскать свободное купе первого класса, вскочила в него, опершись о мое плечо, и, усевшись, приказала мне закрыть ей ноги медвежьей шкурой и подложить грелку.
Затем она кивком головы отпустила меня.
Я медленно пошел в свой вагон третьего класса, весь пропитанный самым мерзким табачным дымом, как чистилище туманными парами Ахеронта. Потянулся долгий досуг, во время которого я мог предаваться решению загадок человеческого бытия и величайшей из этих загадок – души женщины.
Каждый раз, когда останавливается поезд, я выскакиваю, бегу в ее вагон и смиренно стою со снятой с головы фуражкой в ожидании ее приказаний. Она велит принести то чашку кофе, то стакан воды, раз потребовала легкий ужин, в другой раз – таз с теплой водой, чтобы вымыть руки, – и так все время.
В купе у нее поместились по пути двое-трое пассажиров, она позволяет им ухаживать за собой, кокетничает с ними; я умираю от ревности и вынужден скакать сломя голову, чтобы быстро исполнять все приказания и своевременно приносить все, не; опоздав, когда тронется поезд. Так проходит вся остальная часть дня, наступает ночь.
Я не в силах ни куска проглотить, ни глаз сомкнуть, дышу одним воздухом с польскими крестьянами, с барышниками-евреями, с грубыми солдатами, – воздух насквозь пропитан луком, – а когда вхожу к ней в купе, вижу ее закутанную в мягкие меха, на подушках дивана, укрытую шкурами, – лежит, словно деспотическая властительница Востока, а господа пассажиры сидят навытяжку, прислонившись к стене – точно индийские идолы, – едва смея дышать.
В Вене, где она останавливается на день, чтобы сделать кой-какие покупки, и прежде всего накупить множество великолепных туалетов, она продолжает обращаться со мной как со своим слугой.
Я следую за ней на почтительном расстоянии, в десяти шагах; она протягивает мне то и дело, не удостаивая меня ни одного приветливого взгляда, пакеты, и я наконец, нагруженный как осел, вынужден пыхтеть под их тяжестью.
Перед отъездом она отбирает у меня все мои костюмы, чтобы раздать их кельнерам отеля, и приказывает мне облачиться в ее ливрею, в панталоны и куртку ее цветов – светло-голубого с красной отделкой – в четырехугольную красную шапочку, украшенную павлиньими перьями, которая очень недурно идет мне.
На серебряных пуговицах – ее герб. У меня такое чувство, словно меня продали или я прозакладывал душу дьяволу.
Мой прекрасный дьявол везет меня из Вены во Флоренцию. Вместо прежних поляков и евреев мое общество теперь составляют курчавые contadini, красавец сержант первого итальянского гренадерского полка и бедняк немецкий художник. Табачный дым пахнет теперь не луком, а сыром.
Снова наступила ночь. Я лежу на своей деревянной скамье, все мое тело ноет, руки и ноги как будто перебиты. Но поэтично это все же. В окна мерцают звезды, у сержанта лицо настоящего Аполлона Бельведерского, а немец художник поет прелестный немецкий романс.
Я лежу и думаю о красавице, уснувшей по-царски спокойным сном в своих мягких мехах.
* * *
Флоренция! Шум, крики, назойливые афчини и фиакры. Ванда подзывает один из экипажей, а носильщиков прогоняет.
– Зачем же мне был бы слуга? – говорит она. – Григорий… вот квитанция… получи багаж!
Она плотнее закутывается в свою меховую шубу и усаживается спокойно в экипаж, пока я втаскиваю один за другим тяжелые чемоданы. Под тяжестью последнего я спотыкаюсь, но стоящий поблизости карабинер с интеллигентным лицом помогает мне, поддержав его. Ванда смеется.
– Этот чемодан должен быть тяжеленек, – говорит она, – потому что в нем все мои меха.
Я вскарабкался на козлы и начал вытирать прозрачные капли со лба. Она крикнула извозчику название гостиницы, тот погнал лошадь. Через несколько минут мы остановились перед ярко освещенным подъездом.
– Комнаты есть? – спросила она швейцара.
– Есть, сударыня.
– Две комнаты для меня, одну для моего человека – все с печами.
– Две элегантные комнаты, сударыня, обе с каминами – к вашим услугам, – сказал подбежавший номерной, – а для вашего слуги есть одна свободная без печи.
– Покажите мне их.
Осмотрев комнаты, она кратко обронила:
– Хорошо. Я беру их. Живо затопите только. Человек может спать в нетопленой комнате.
Я только взглянул на нее.
– Принеси сюда чемоданы, Григорий, – приказала она, обращая внимания на мой взгляд. – Я пока переоденусь и сойду в столовую. Потом можешь и себе взять чего-нибудь на ужин.
Она вышла в смежную комнату, а я втащил снизу чемоданы помог номерному затопить камин в ее спальне, пока он попробовал расспрашивать меня на скверном французском языке о мое «госпоже», и с безмолвной завистью смотрел некоторое время пылающий огонь в камине, на душистую белую постель noд пологом, на ковры, которыми устлан был пол.
Затем я спустился с лестницы, усталый и голодный, и потребовал чего-нибудь поесть. Добродушный кельнер, оказавшийся австрийским солдатом и старавшийся изо всех сил занимать меня разговором по-немецки, проводил меня в столовую и подал мне поесть. Только что я после тридцатишестичасовой голодовки сделал первый глоток и набрал вилкой кусок горячей пищи – она вошла в столовую.