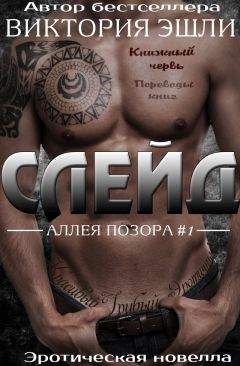Ознакомительная версия.
Чтобы избавиться от навязчивого ухажера, я стала приглашать к себе гостей. Их количество росло в геометрической прогрессии, и они, как тараканы, постепенно покрыли все пространство нашей довольно большой двухкомнатной квартиры в центре города. Не помню, сколько я тогда пила, с кем спала, – все это было в сюрреалистическом дурмане, в мути сигаретного дыма, отравляющего отведенные для дыхания кубометры воздуха. В один из дней моя бабушка собралась с силами и всех оттуда выгнала, а я, рыдая, призналась в произошедшем. Естественно, она тут же бросилась звонить маме с требованием вернуться и «спасать дочь», а также «проклясть вероломного любовника», на что мама ответила, что верит ему, а я, дескать, сама его соблазнила и поделом мне, а у нее дочери вообще нет, раз я такая хамка – еще и кавалеров у нее уводить смею.
Ты знаешь, Максим, что ощущает человек, когда его предает бог? Не человек, не любовница или муж – а именно бог? Ты можешь себе это представить хоть на один-единственный миг? Хоть приблизительно?
* * *
Потом я уехала учиться в другой город: мне хотелось полностью сменить обстановку, остаться одной и научиться жить без бога в измученной полумертвой душе. Между вступительными экзаменами я сделала аборт, идя с одного экзамена на другой с дикими болями и практически истекая кровью оттого, что операцию сделали плохо, не выскребли до конца кусок плаценты, пуповину, прикрепленную к матке, что вызывало почти родовые боли. Стиснув зубы, я отвечала на вопросы экзаменаторов и поступила, к своему удивлению, сдав все на «отлично». Жесткие тиски больницы, искалечившей мое нутро, тогда отпустили меня ненадолго восвояси, оставив после себя в памяти жестяной звук падающих в миску металлических скальпелей, скребков и прочих инструментов и еще запах нашатыря, вполне естественный, потому как в провинциальной больнице не посчитали нужным тратиться на общий наркоз и ограничились вкалыванием обычного новокаина. На их языке это называлось «чистка». Меня «почистили», и я, наверное, могла считать себя с этого момента чистой, буквально непорочной или непорченой… до очередного «лукавого момента».
* * *
Лет десять назад, разбирая завалы покрытых вековой пылью антресолей, я наткнулась на старую катушечную запись, где я тоненьким голоском читаю стихи «Колокольчики мои, цветики степные…». Я даже вспомнила, как стояла перед огромной лакированной бандурой на ножках… там еще было радио, кроме катушечного магнитофона с бобинной лентой. И мама с папой, такие счастливые, гладили меня по голове и заразительно смеялись. Куда все ушло? Где и когда появилась та трещина, которая привела их к разрыву, – к тому, что каждый пошел своим путем, малодушно оставив другого? Я смотрю на детские фотографии, на то, как родители держат меня за руки, а я висну на них и радостно перепрыгиваю через лужи. С какого момента в нашу семью пришло то самое Горе-Злосчастье, описываемое в русских народных сказках?
Воспоминания перемежаются, расплываются и возвращаются хорошо забытым счастьем и незабываемой болью. Когда мне говорят, что любой опыт для чего-нибудь нужен, я задумываюсь: а так ли это? Вот моя бабушка в шестнадцать лет ушла на фронт, ее отца расстреляли по нелепому доносу свои же, русские, она переболела брюшным и сыпным тифом, пока работала в госпитале санитаркой, а потом потеряла возлюбленного… Для чего ей нужен был этот опыт? Для чего нужен опыт матери, рождающей дауна? Для чего… Неужели во всем этом есть какой-то «высший смысл»? Неужели?..
А, ладно, это все просто пустые размышления, не способные что-либо изменить в происходящем. Наверное, это все нужно для того, чтобы маленький человеческий организм, родившийся с тонкой кожицей души, наращивал постепенно на нее скорлупу, слой за слоем, и чтобы потом ни одна зараза не смогла ее расколоть, уколоть, ужалить – словом, нанести какой-либо вред. Я в этом плане не слишком жизнеспособная, и многим удается растворить эту скорлупу и впрыснуть туда толику яда, разумеется, из «чисто исследовательского» любопыт-ства – проследить, что из этого воспоследует, какая химическая/психологическая реакция организма к какому процессу жизнедеятельности приведет.
* * *
Я очень хотела, чтобы ты приехала ко мне домой, Максим, посмотрела написанные мной картины, пролистала альбомы с детскими фотографиями, увидела ту меня, которая была скрыта от тебя до времени защитной скорлупой. Наверное, это было ошибкой. Ты чувствовала себя неловко в чужом жилье, словно пришла вторгнуться как завоеватель в чужую страну, как захватчик и варвар. Мы даже не смогли заняться сексом, ощущая чудовищную неправильность от того, что это происходит совершенно не на том ложе, пусть оно уже давно и не «супружеское», и сбежали гулять в парк, где было гораздо свободнее и легче дышать.
Но и там тебе было плохо. Ты металась по дорожкам с возгласом «Надо срочно выпить!» и бросила меня на скамейке в поисках магазина, чтобы купить коньяк… Всё во мне отторгало твое поведение и поступки, кричало, что так нельзя: да и как потом доверять дочь человеку, у которого может снести крышу буквально по любому поводу, и подобная мятежность в довольно зрелом уже возрасте не сможет быть подспорьем в нашей новой семье. Я мучилась, Максим, мучилась, потому что не хотела верить своим глазам и мыслям – я так хотела той прежней приморской сказки, хотела тихой и прекрасной любви… обнявшись, смотреть с тобой какой-нибудь фильм… или вместе, втроем, делать уроки с дочкой… мечтала о том, что у нас будет свой Париж, своя Индия…
Но ты… ты хотела как в «Детях века»: как у Жорж Санд и Альфреда Мюссе – их неистовой страсти, их мук, до болезни, до безумных страданий, до эйфории, в которой можно написать новый роман, который потрясет мир. Мы могли бы стать новыми ДЕТЬМИ ВЕКА и увековечить себя в истории литературы, опьяняя молодые души кипящими страстями сумасшедшей и нереальной любви двух планет, сошедших со своих орбит и потрясших Землю ослепительным взрывом. А может быть, тебе виделось что-то иное. Не знаю.
Я думала, мы сможем уехать куда-то на неделю вдвоем и там спокойно разобраться в том, что происходит и что делать дальше. Если наши тела и души смогут одновременно находиться практически в одной точке пространства, если мы сможем засыпать и просыпаться вместе, а не по отдельности, каждый на другом конце города, то, возможно, все же найдем выход из ситуации, сможем сгладить те шероховатости, о которые терлись наши «Я» в попытке подчинить одна другую той самой искомой «безусловности любви».
Сейчас мне кажется, что после той своей первой любви ты больше неспособна полюбить кого-то по-настоящему, Максим. Впрочем, может быть, после Яны я тоже не смогу. Мы просто устроили себе маленькую переменку посреди уроков жизни и со страхом ожидали звонка, после которого опять придется плестись на нежеланные занятия. Количество глупости в наших поступках неуклонно росло: похоже, что мы нарочно испытывали друг друга на прочность какими-то детскими приемами и простенькими шалостями – и сами же срывались, не выдерживая их. Чаша весов постоянно колебалась то в одну, то в другую сторону, пока наконец не рухнула, полностью искореженная – уехав на море, мы ничего не изменили: наждачная сторона наших душ по-прежнему сохраняла свою структуру, и мечты о некоей трансформации наших оболочек, увы, остались лишь мечтами, отражая в кривом зеркале всю киношность наших взаимоотношений.
Ознакомительная версия.