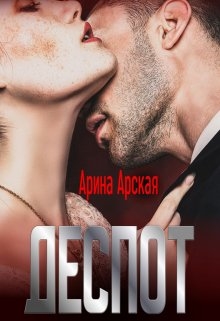— Я не боюсь, — сердито шепчу в губы.
— И очень зря, — с грохотом смахивает тарелки, бокалы и пустую бутылку, рывком водрузив меня на стол.
Сбрасываю туфли, и Мирон Львович с рыком въедается в губы, а затем нетерпеливо и неуклюже стягивает с меня брюки вместе с кружевными трусиками. Не успеваю отдышаться, как он вновь меня целует, вцепившись одной рукой в волосы, а другой решительно раздвигая ноги.
Ласки его на грани грубости: поцелуи агрессивные, несдержанные, отчаянные и походят на укусы, но я рада им. Я, как и Мирон Львович, на пределе. Нас захватило черное пламя безумия, и мы оба нуждаемся в неистовой близости. Мы аморальные и бесстыдные звери, сорвавшиеся с цепей.
И не думаю я сейчас о высокой зарплате, об Анжеле или о сделке с Мироном Львовичем. Нет во мне и проблеска разума, лишь ревущий и ослепляющий огонь, и он выжег во мне все мысли, сомнения и сожаление.
Мирон Львович подтаскивает к краю стола, не отрываясь от губ и расстегивает ширинку. Под мой глухой стон проводит пальцами по намокшей промежности и с давлением проходит по клитору, что вызывает во мне слабую судорогу тягучего удовольствия.
— Ах ты, маленькая шлюшка, потекла? — хрипло шепчет в ухо и касается ноющих и опухших складок, которым прилила кровь.
— Потекла, — честно сознаюсь и захлебываюсь в темном желании к беспринципным мерзавцу.
Мне жарко. Стаскиваю с себя топ, и Мирон Львович отстраняется на мгновение, чтобы потом вновь присосаться к шее. Его руки скользят по телу, и мои стоны обращаются в тихий скулеж.
На выдохе целует, и вместе с уверенным толчком меня пронзает боль, что растекается из чрева по всему телу дрожью. Вскрикиваю, и Мирон Львович душит меня в объятиях, вжавшись в меня тазом. Меня распирает изнутри раскаленным железом и никуда не деться. На несколько секунд меня оглушает паникой, что брызжет из глаз слезами и вырывается изо рта обрывистыми и хриплыми вздохами.
Мирон Львович целует меня в жалобно мычащий рот и медленно ведет бедрами. Стискиваю в пальцах лацканы его пиджака, вздрагивая от каждого его уверенного движения, которые отдаются между ног тупой болью. Я напугана и дезориентирована. Сладкое желание забивается решительными толчками, а жадные поцелуи отзываются стыдливыми охами.
Отпрянув, всматривается в глаза и под мой испуганный писк прорывается в истерзанное лоно до основания. Глубоким и влажным поцелуем вновь пьянит меня болезненным и противоестественным вожделением. Задыхаюсь в стонах, а Мирон Львович, будто в слепой ненависти рвет меня на части смущением и сильными спазмами экстаза, что можно сравнить с жестокой пыткой.
Когда он с утробным и каким-то звериным рыком содрогается и выскальзывает из меня, чтобы через секунду окропить живот горячим семенем, я всхлипываю и в пьяных рыданиях падаю на спину, прикрыв лицо руками. Меня лишили невинности под красивой хрустальной люстрой на массивном и крепком столе из лакированного дуба, и я посмела получить удовольствие. Где моя расчетливость и хладнокровие?
Тяжелое дыхание Мирона Львовича отдается гулом в ушах, а его поглаживания по бедрам теплыми ладонями не успокаивают. Наоборот, они вызывают новые приступы рыданий. Он прав, я гадкая шлюшка! Вытирает салфеткой живот от липких пятен и молча подхватывает на руки.
— Оставьте меня. Прошу.
— На столе? — изумленно спрашивает Мирон Львович, похрустывая осколками под туфлями.
— Можно и на столе, — бубню в ладони сквозь слезы. — Хороший стол. Крепкий.
Смеется, стервец. А я разве шучу? Вот мой бы кухонный стол развалился от его несдержанности и напора. Рыдаю теперь над тем, какая у меня хлипкая мебель и как мне ее жаль. Над старыми советскими стульями, над тумбочкой без одной ножки и над комодом, у которого заедает нижний ящик. Бедные несчастные малыши, которые нуждаются в заботе и ремонте, а у меня даже молотка дома нет.
Прихожу в себя уже под одеялом на жестком матрасе и шелковых простынях. Мирон Львович лежит рядом в темноте и успокаивающе поглаживает по бедру. Чего ты меня трогаешь? Это же ты и виноват в моих слезах. Между ног тянет болью и зудящим дискомфортом.
— Успокоилась? — тихо спрашивает и умело расстегивает бюстгальтер, который сдавливает грудь стальным кольцом.
— Нет, — цежу сквозь зубы и шмыгаю. — И чтобы вы знали, мне не понравилось.
— Ты лгунья, — вздыхает Мирон Львович.
— Вы нагло воспользовались моей слабостью, — бурчу в подушку.
— Разве?
— Да.
— Не настолько ты пьяна, чтобы не отдавать отчет в своих действиях. Кто сказал, что не боится? И буду честным, твоя смелость и решительность меня впечатлила.
Я слышу в хрипловатом и сонном голосе издевку, однако что бы он сейчас ни сказал, все будет звучать насмешливо, даже если признается в любви, а он не признается, ведь у него разбито сердце. Так страдает, что нашел новую бабу на замену!
— Злишься?
— Нет, — рявкаю в подушку.
— Софушка, — опять самодовольно посмеивается, — ты не раз будешь кончать от моего члена. Громко и ярко. Привыкай.
С неразборчивым бурчанием сворачиваюсь в калачик под одеялом. Не хочу я больше члена Мирона Львовича. Мне одного раза за глаза хватило. Я даже не уверена, что смогу встать с постели и пройти несколько шагов.
— Каждая женщина проходит этот этап в своей жизни, — ласково обнимает и целует в затылок. — Почти каждая. Есть, конечно, старые девы, но это не про тебя. Я спас тебя от этой незавидной участи.
— Незавидная участь случилась со мной на столе, — зло шепчу сквозь зубы.
— И не раз еще случится, — Мирон Львович отзывается с легким смешком и замолкает.
Полежу и дождусь, когда заснет, чтобы потом без лишнего шума покинуть дом. Без понятия, где конкретно я нахожусь, но об этом я подумаю, когда выберусь из объятий, в которых так тепло и уютно.
Боль внизу затихает, и меня утягивает в дремоту. А как тут не уснуть? Я устала и эмоционально вымотана. Сквозь грезы слышу обеспокоенный шепот Мирона Львовича, который просит кого-то успокоиться. С трудом открываю глаза и в предрассветной серости вижу всклокоченную Анжелу у кровати в мятом платье цвета пудровой розы и с пистолетом в трясущихся руках. Дуло направлено на меня, а лицо искажено гримасой злобы. Она явно не в себе и выглядит посреди белой с позолотой роскоши нелепо.