Инстинкты благоразумия, доброты, верности, жажда справедливости, врожденные для большинства женских душ, расцветут тогда, без ненужных терний, к величайшему благу для половой морали, неотделимой от морали общечеловеческой.
Резюмирую: я разоблачил опасность. Я указал по ту сторону пропасти на широкий путь равенства, эквивалентности (если этот термин вы сочтете более подходящим), по которому оба пола непременно когда-нибудь пойдут, согласованно, рука об руку. «Моника Лербье» только этап на неизбежном пути феминизма к прекрасному, ожидающему его будущему. В следующем своем романе я попытаюсь его обрисовать, будучи убежден — вместе с одним из персонажей настоящей книги, — что нельзя судить о грядущем на основании лишь какой-либо одной из сторон настоящего и что «в самой анархии вырабатывается новый порядок вещей».
В.М.
15 октября 1922 года.
Моника Лербье позвонила.
— Марьетта, — обратилась она к горничной, — манто!
— Какое, мадемуазель?
— Голубое. И новую шляпу.
— Принести сюда?
— Нет, приготовьте в моей комнате…
Моника вздохнула. Какая мука этот благотворительный базар, если она не встретит там Люсьена! Так хорошо было бы с ним в маленькой гостиной.
Моника опускает голову на подушки канапе и снова предается воспоминаниям.
Ей пять лет… Сейчас она сядет обедать за крошечным столиком в детской с Мадемуазель — ежедневной руководительницей всей ее жизни.
Но сегодня вечером Мадемуазель свободна, и ее заменяет тетя Сильвестра.
Моника обожает тетю Сильвестру.
Прежде всего потому, что они обе не похожи на других. Другие — это женщины. Даже Мадемуазель. Но мама ей сказала:
— Я буду вас звать «Мадемуазель», хотя вы и вдова… не правда ли? Гувернанток всегда называют «Мадемуазель». Тетя же Сильвестра и Моника — просто две девочки. Моника, хотя и считает себя иногда взрослой, — маленькая девочка, а тетя — старая девочка.
Старенькая-старенькая… У нее лицо, как печеное яблочко, а из бородавки на подбородке торчат три волоска.
Тетя Сильвестра каждый раз привозит из Гиера черную медовую нугу с миндалем.
Где это Гиер? Что это такое?
Hyeres — это все равно что Nier[1], — размышляет Моника, — значит, ужасно далеко для человека, который знает еще только одно «сегодня». А сегодня праздник — папа с мамой поедут в оперу, а потом их пригласили в ресторан. Опера — это дворец, где танцуют под музыку феи, а ресторан — такой зал, где кушают устриц. Там бывают только взрослые, говорит тетя Сильвестра… Но вот и одна из фей… Ах, нет, это мама в декольтированном платье с белым пером в волосах, и вся она точно в жемчужном покрывале.
Моника в восхищении прикасается к нему пальчиками.
Да, настоящие жемчужинки. Вот бы ей ниточку таких!
Она ласкает шею мамы, которая поспешно наклоняется, чтобы сказать «до свидания».
— Ах, пожалуйста, без поцелуев, я и так покраснела, — говорит она с досадой.
Ручонки тянутся к маминым бархатным щечкам, но она недовольно повторяет:
— Будет, ты сотрешь мне всю пудру!
Сзади стоит папа, весь в черном. Жилет у него смешно вырезан на блестящем картоне рубашки.
Мама рассказывает тете Сильвестре какую-то длинную историю. Та слушает, улыбаясь.
Папа сердится и топает ногами:
— С вашей манией по три часа подкрашиваться и шлифовать ногти мы опоздаем к увертюре.
К какой увертюре? Будут открывать устриц?
Должно быть, нет…
Когда папа с мамой уезжают, не поцеловав ее на прощанье, Моника спрашивает тетю Сильвестру со сжавшимся сердечком:
— Тетя, что такое увертюра? Музыка тоже открывается? Как устрицы? Но как же это делается?
И мечтательно ждет ответа.
Тетя Сильвестра берет девочку на колени и, лаская, объясняет: музыка — это песенка, которую в мире поют все, особенно счастливые… ветерок ее насвистывает над морскими волнами… музыкальные инструменты повторяют ее в концертах. А увертюра — это что-то вроде огромного окна в небе, чтобы ее можно было слушать и оттуда.
— Ты понимаешь?
Моника нежно смотрит на тетю Сильвестру и кивает головкой: да…
Монике восемь лет, она тянется вверх, как стебелек, и часто покашливает. Потому Мадемуазель (это уже не вдова, а дама из Люксембурга с красными и твердыми, словно мячики, щеками, которая ее ни капельки не любит) не позволяет Монике шлепать босиком по морскому берегу и ловить маленьких креветок средь камней.
Ей запрещено даже подходить к морю, запрещено рвать водоросли, напоенные соленым ароматом океана, и собирать перламутровые ракушки, внутри которых так ясно слышен шум волн.
— Зачем тебе все эти гадости? Брось сию минуту! — раз и навсегда сказала мама.
Моника не может даже читать сколько ей хочется (говорят, что напряжение ослабляет память), но вместо этого ей приказано регулярно, по часу в день играть гаммы. Это доводит ее до сумасшествия, а взрослые называют подобную пытку дисциплиной пальцев.
Итак, летние вакации в Трувиле еще скучнее парижской жизни, и там еще реже она видит папу и маму.
Мама всегда разъезжает на автомобиле с кавалерами, а вечером, если обедает дома, — что бывает так редко, — сейчас же переодевается к танцам в казино.
Возвращается она очень поздно и так же поздно встает. Папа… Он приезжает только по субботам с поездом дачных мужей и в воскресенье всегда занят деловыми разговорами.
Но самое ужасное мучение — это гулять с мамой по набережной, где сходятся и расходятся по деревянному настилу белые манекены, точно соскочившие с магазинных витрин. Все они похожи друг на друга как две капли воды. То ходят плотными рядами, то разбиваются на группы (дамы и кавалеры), то толпятся под навесами павильонов, раскланиваясь с прибывающими новыми парами.
Когда доходят до конца деревянной набережной, заворачивают полукругом, и опять продолжается шествие. Зачем это делается, Моника не может понять.
Еще одна тайна! Мир ими полон, если верить небрежным ответам старших на ее бесконечные вопросы.
Иногда ей позволяют немножко поиграть — но недалеко от кружка, где заседают мамаши, — с маленькой Морен и с мальчиком, которого она прозвала Волчком за то, что он всегда вертится на одной ножке и поет.
Сбившись в кучу под рассеянным взглядом, они все трое строят воображаемый раззолоченный замок с бастионами и рвами. В середине с граблями на плече стоит кудрявый мальчик по прозванию Баран. Чтобы Баран стоял на месте, они командуют: «Ты будешь гарнизон!»
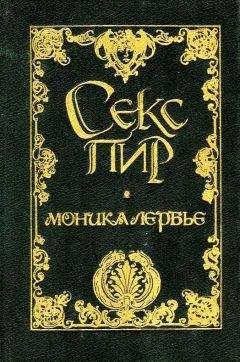
![Даниэль Дефо - Жизнь и приключения Робинзона Крузо [В переработке М. Толмачевой, 1923 г.]](https://cdn.my-library.info/books/19937/19937.jpg)



