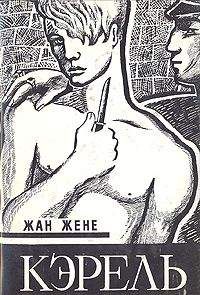Стены не позволяли Жилю видеть, что происходит за пределами тюрьмы, однако грохот и крики, доносившиеся с верфи и как бы отфильтрованные камнем, вызывали в его воображении чудесные образы. А воображение запертого в четырех стенах, подавленного совершенным им убийством и молодостью, задыхающегося от тоски и запаха гудрона юноши развивалось с необычайной силой. Необходимость бороться с препятствиями шла ему на пользу. Среди доносившихся до него звуков Жиль отчетливо различал скрежет подъемных кранов и лебедок. Его бригада работала в Бресте совсем недолго, и оживление верфи все еще сильно волновало его. Отчетливые ясные звуки напоминали ему о сверкающей на солнце меди капитанского мостика, о стремительном скольжении украшенной флагом шлюпки с блестящими позолотой офицерами, о парусе на рейде, о плавном маневре крейсера с рядами по-детски грациозно застывших в строю юнг. В тюрьме все эти картины рисовались ему в тысячу раз более красочными. Море всегда было символом свободы, любой образ, связанный с ним, отягощен этой символической значимостью моря и как бы замещает собой все его целиком, и чем банальнее родившийся в душе узника образ, тем болезненнее его воздействие на него. Нет ничего удивительного в том, что сознание ребенка, внезапно увидевшего плывущий в открытом море корабль, бывает глубоко потрясено, однако в данном случае море и корабль входили в сознание не сразу, а постепенно: сперва слышался характерный скрежет цепи (возможно ли, чтобы скрежет самой обычной ржавой цепи был способен потрясти душу?). Но Жиль постепенно (сам того не подозревая) с мучительным трудом обучался поэзии. Образ цепи пробивал маленькую брешь в его душе, которая затем увеличивалась и в нее уже мог пройти корабль, море, целый мир, что в конце концов грозило разрушить Жиля, вытеснить его из этого мира, окончательно растоптать, уничтожить. Сидя целыми днями на корточках за большим мотком каната, он постепенно начал испытывать к этому канату привязанность, что-то вроде дружбы. Он привык к нему. Полюбил его. Ему был нужен именно этот канат, и только он. Жиль уже не мог оторваться от него, он покидал его только на несколько секунд, чтобы подойти к окнам без стекол (или со стеклами, но ставшими из-за слоя грязи опаловыми). Охваченный отчаянием, он сидел в его тени и слушал золотую песнь порта. Он постигал ее смысл. Море за стенами было таким величественным и близким, беспощадным и нежным к таким, как он, ко всем, кому не повезло в этой жизни. Застыв в неподвижной позе, Жиль подолгу, не отрываясь, смотрел на конец каната, который перебирали его пальцы. Его взгляд был прикован к нему. Все его внимание было поглощено этой штуковиной, напоминающей огромную пропитанную гудроном женскую косу. Это было печальное зрелище, лишавшее убийство Тео всякого великолепия, ибо тот, кто его совершил, теперь с самым жалким видом перебирал грязными пальцами черный липкий канат. Сосредоточившись на этом занятии, Жиль стремился перебороть свое отчаяние и обрести покой. Поглощенный созерцанием просмоленного каната, его взгляд иногда — из-за невыносимо тягостного чувства, вызванного этим зрелищем, — все-таки отрывался от него, а в душе пробуждалось какое-нибудь счастливое воспоминание. Потом Жиль снова возвращался к канату, свой интерес с которому он уже не способен был себе объяснить, — и продолжал молча изучать его. Эта привычка позволяла ему развивать наблюдательность. Увы, к несчастью для себя Жиль приобретал способность внезапного и непосредственного постижения сути вещей и медленно продвигался в этом направлении все дальше и дальше — он постигал суть гранита, суть ткани, шершавость железной тарелки, край которой резал ему губы, — к окончательному постижению обнаженной сути жизни. Иногда у него на глазах проступали слезы. Он вспоминал своих родителей. Допрашивали их уже легавые или еще нет? Днем он часто слышал, как военные барабанщики и горнисты, упражняясь, по нескольку раз повторяют отрывки маршей. Для постоянно пребывающего в темноте Жиля эти репетиции были чем-то вроде чудовищного пения петуха, весь день предвещавшего восход солнца, которое никогда не всходило. Эти неспособные разорвать мрак ночи звуки окончательно повергали Жиля в отчаяние. Предвещавшие зарю знамения оказывались ложными. Внезапно, без всякой причины Жиль вставал. И начинал ходить взад-вперед по камере, стараясь избегать мест, куда падал свет. Но вечером он с нетерпением ждал появления Роже, приносившего ему пищу и утешение.
— Бедный мальчик. Только бы он меня не бросил. Только бы его не поймали. Что тогда со мной будет?
Ножом, оставленным ему Роже, Жиль выцарапал на граните свои инициалы. Он много спал. Просыпаясь, он всегда сразу же вспоминал, что скрывается, прячется от полиции всех стран мира из-за убийства или даже целых двух. Униженность его положения заставляла его осознавать свое одиночество. Жиль утвердился в нем и сказал себе:
«Это я, Жиль, Жильбер Тюрко, и я совсем один. Чтобы стать настоящим Жильбером Тюрко, надо быть одиноким, а чтобы быть одиноким, надо, чтобы я был совсем один. А это значит быть брошенным всеми. Черт! Плевать я хотел на своих предков! Какое мне до них дело? Мой папаша спустил в дырку моей мамаше, и через девять месяцев оттуда вылез я. Мне на это насрать. Я появился на свет в результате неосторожной струйки малафьи. Моим старикам я не нужен. Они самые обыкновенные скоты».
Он старался как можно дольше поддерживать в себе это агрессивно-кощунственное настроение, ибо оно позволяло ему дать выход накопившемуся в его душе озлоблению и помогало держаться прямо и не склонять головы. Жилю хотелось навсегда сохранить в себе это чувство, ему были необходимы ненависть и презрение к родителям, чтобы жалость к ним окончательно не раздавила его. Вначале он все же позволял себе немного расслабиться, и тогда, съежившись, со склоненной на скрещенные руки головой, он снова становился послушным, обожаемым своими родителями ребенком. Отвлекшись от содеянного им, он представлял свою дальнейшую жизнь спокойной и беззаботной, не отягощенной никакими преступлениями. Но потом процесс саморазрушения снова в нем возобновлялся.
«Прикончив Тео, я правильно поступил. Если бы мне пришлось начать все сначала, я сделал бы то же самое».
Жиль стремился уничтожить (точнее, ему этого очень хотелось) в себе малейшую жалость, ибо она угрожала его существованию.
«Бедняга. Он здоров, силен, но есть ли в нем хоть что-нибудь по-настоящему крутое? Абсолютно ничего. Одна видимость», — думал он о Кэреле. Он старался убедить себя, что презирает его, но что-то в самой глубине его подсознания заставляло его испытывать симпатию с этому здоровяку, чьи спокойствие, возраст и стабильное положение в обществе невольно поддерживали Жиля и не позволяли ему окончательно впасть в отчаяние. Во время своего второго визита Кэрель казался более оживленным. Он отпускал шутки по поводу смерти, и у Жиля сложилось впечатление, что для матроса человеческая жизнь не представляет никакой особой ценности.