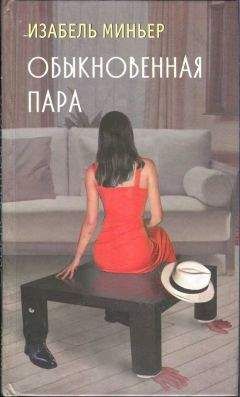Скука и отвращение сочетались вместе, чтобы сильнее огорчить меня; мои насыщенные чувства мне опротивели, и очень часто, Манон, когда я падаю на грудь женщины, все равно какой, я это делаю только для того, чтобы унизить их перед собой, чтобы они, наконец, очнувшись, еще с большим презрением отнеслись к самим себе. И однако же я не злой, я бы хотел быть хорошим и даже очень хорошим, я люблю слезы в глазах других, потому что и я плачу иногда; я бы хотел, чтобы моя печаль распространялась на всех, чтобы, наконец, и я не отчаивался больше…
С этими словами, высказанными с энтузиазмом задетого за живое человека, он обхватил обворожительный бюст Манон, наклонил ее к себе так, что его губы могли касаться бледной розы растроганной куртизанки, и сказал ей нежным, чуть слышным, удивительно трогательным голосом:
— Я никогда не осмеливался тебе сказать, что ты мое будущее счастье, потому что я боялся, что мне откажет единственная женщина, которую я мог бы обожать. Иногда, Манон, ты отдавалась так, как феи или королевы отдаются покорным. Это твоя привилегия ласкать, не унижая себя, слабых сердцем с такой искренностью, как будто эту ласку ты продаешь богатым и могущественным мира сего. Это милостыня с твоей стороны, и я жду ее с той страстностью, с какой неимущий надеется на выигрыш. Ты моя гордость; когда ты будешь принадлежать мне — о, как я сильно этого желаю! — я буду счастливым человеком. Проникнув в рай, я там поселюсь; моя душа не захочет больше покинуть его. О, целовать твою грудь, ощущать содрогания твоего трепещущего тела, испытывать очарование и приятное опьянение твоих жгучих уст; слушать вздохи, вылетающие из твоей груди, погружаться в золотистые волны твоих ослепительных волос и черпать в их благоухании вдохновение для прекраснейших мечтаний: вот, Манон, мое истинное желание, которое я испытываю все время, и даже, клянусь тебе в этом, я испытываю это тогда, когда держу в объятиях какую-нибудь девушку; всегда, во всякий момент моей жизни, во всяком состоянии, спокойном или безумном, ты всегда там, в моем сердце, в моей душе, как неизменный идеал. В один прекрасный день, когда я почувствую особое отвращение, когда мне опротивеет жизнь; тогда я, потеряв надежды, пойду, быть может, пресмыкаясь, как бездомная собака, за тобой туда, куда ты последуешь, я явлюсь к порогу твоей запертой двери. Никто не откроет… если это будет не с целью меня прогнать… я покончу с собой на коврике, о который ты вытираешь ноги: на следующее утро ты найдешь мой труп, забрызганный кровью; ты сумеешь тогда сказать: «Это был несчастный сумасшедший, который меня обожал, я его оттолкнула, и он не захотел тогда больше жить!»
Во время речи моего хозяина белокурая куртизанка, совершенно растроганная его любовью, которая, если судить по мучительному тону признания, не отличалась особенной страстностью, отдалась новым ощущениям: так с ней объяснялись впервые. Ее боготворили! Ей казалось, что весь ее блеск был причиной несчастья другого. Она олицетворяла собой печаль. Ее большие глаза цвета морской волны становились то зелеными, то голубыми; в них, как в волнах, отражалось прекрасное небо, они казались заплаканными, полными наивных детских слез; нежно, как бы желая исправить зло, которое, ей казалось, она причинила, она кинулась в его объятия, готовая на все, и еле слышным, как бы умоляющим голосом пролепетала:
— Я тебя тоже люблю.
Воспользовавшись минутой, когда глаза прелестной женщины были закрыты, мой хозяин торжествующе улыбнулся. Да, комедия, которую он ломал, возымела свое действие.
Он овладел этой горделивой куртизанкой, которая до сих пор встречала подобные комплименты насмешливыми улыбками, похожими на презрение! Но для него было недостаточным только овладеть ею. Нужно было, чтобы она унесла неизгладимое воспоминание об этой любви. Воодушевленный, он решил употребить все свое могущество — о, он был по этой части виртуозом. И немного времени спустя признательная Манон, преисполненная радости, умоляюще воскликнула:
— Я тебя умоляю!.. Я тебя умоляю!.. Дай мне еще жить… Не заставляй меня умирать!
Умирать! Нет, мой хозяин вовсе не хотел ее смерти! Ему нужно было только, чтобы она превозносила до небес полученные наслаждения, для того, чтобы другие куртизанки пришли в берлогу этого чудовища, привлеченные приманкой необыкновенных удовольствий.
Я наблюдала за покрасневшей Манон. У нее уже не было привычного вида куртизанки; это была совершенно маленькая девочка, растроганная ложью, которой ее захотели заманить. Вошла она сюда кокеткой; уходила же совсем другой. Когда она входила, сердце ее было спокойно, теперь же оно было полно треволнений: без сомнения, она задалась вопросом, имеет ли право куртизанка любить так, как и другие женщины.
Слова опьянили ее так же сильно, как опьяняют хорошие вина. Она не понимала, каким образом с ней произошла такая перемена; но эта перемена ее обеспокоила, как обеспокоилась бы, пожалуй, собака, почувствовав у себя чужую душу…
Миновала эта ночь; я позволю себе высказать свое мнение о происшествии и событиях, тем более, что я тогда еще была почти совершенным новичком. Все возможно в этом мире: я могла бы быть обыкновенной, безмятежной, мещанской кушеткой, служить старику, страдающему подагрой, или молодому повесе, но по случайному стечению обстоятельств я стала соучастницей одного из величайших современных развратов. Теперь я вам скажу свое мнение о той сложной роли, которую сыграл мой хозяин: нельзя было бы довести до такой степени раздражения куртизанку, подобную Манон, если бы в ход пускались средства, предназначенные для того, чтобы уговорить маленькую мещанку обмануть мужа. Я об этой истории не могу вспомнить без удивления: мой хозяин играл артистически; все же утверждаю, не боясь ошибиться, что если он и увлекался многими женщинами, то любил лишь одну: даму с карими глазами.
Мало-помалу, по мере того, как я становилась взрослее в обществе моего хозяина и его посетителей, несмотря на природную стыдливость, я приходила к убеждению, что вполне допустимо, в общем, чтобы мужчина обожал женщину и без зазрения совести ее обманывал. Ясно, что подобные мысли не сразу приходят в голову. Необходимо некоторое время; однако чувства меняются, и, когда обширный труд окончен, не приходится удивляться высказанным соображениям…
Вскоре я оказалась пассивной зрительницей одной сцены, о которой следует рассказать несколько подробнее.
В комнате в течение дня никого не было; бедная мебель уже начинала дремать в ночной тишине, как вдруг послышался за дверьми ужасный шум. Мы затрепетали от ужаса; и прежде, чем комната осветилась, в нее вошли три женщины.