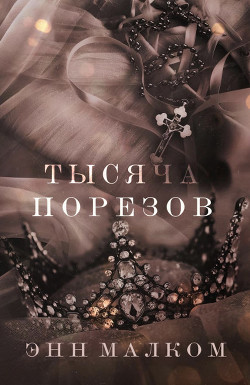Поэтому я принялась за работу.
Конечно, нелегко было написать целую книгу со сломанной рукой и разбитым сердцем, но технологии продвинулись настолько, что я могла пользоваться только одной рукой или вообще обойтись без рук. Что я и сделала.
Запас обезболивающих, к сожалению, был не бесконечен, а Кэрри выписывала рецепт на новые таблетки не очень охотно. Выздоровление без опиатов — не самое лучшее время в моей жизни. Вино лишь слегка притупляло боль, а так как мне не хотелось, чтобы опиатная зависимость превратилась в алкоголизм, я стала ограничиваться одной бутылкой в день. Ладно, иногда выпивала две, но уверена, что даже сам Хемингуэй говорил, что писать в пьяном виде можно, если не нужно. Даже если технически я не писала, а диктовала.
Поначалу я чувствовала себя странно, когда произносила свою историю вслух.
Любимыми вопросами интервьюеров после знакомства со мной были вопросы о тридцатилетней женщине, традиционно привлекательной и больше походившей на трофейную жену, чем на женскую версию Стивена Кинга. И да, кто-то однажды мне это уже говорил.
Отсюда и их вопросы как я могу создавать свои истории.
Мой ответ был примерно следующим: «Придумывать ужасы может практически каждый. Самое сложное — понять, как справится с ними на экране, смотрящими на тебя в ответ».
И это было правдой. Во мне таились глубины ужасов, как собственных, так и выдуманных, и я оказалась достаточно талантлива, чтобы понять, как пробудить в людях желание погрузиться в них. Чтобы сплести слова, а затем с мужеством справляться с ними, смотрящими на тебя в ответ с монитора. Чтобы произносить их в машину, вводившую их в компьютер, я не переставала смотреть на них, что немного смягчало удар. Или, может быть, я просто стала жестче.
Шесть месяцев спустя
— Это моя лучшая работа. И да, знаю, что ты не помнишь других, поэтому тебе не с чем сравнивать.
Я сделала паузу. Неловкую. Неудобную.
Рука болела от тепла. Конечно, болела. Большинство людей с подобными повреждениями костей, которые никогда не заживали нормально — потому что ничто и никогда не заживало — испытывали проблемы на холоде. Они не выносили, когда холод просачивался в кости. В трещины. Для меня же холод был единственной вещью, которая помогала. Больно, конечно, было, но боль была другой. Более комфортной. Знакомой.
Сейчас я могла печатать. Конечно, не так, как раньше, а если работала дольше четырех часов подряд, случалось так, что боль становилась настолько сильной, что по щекам стекали непроизвольные слезы.
Из-за чего — из-за боли или из-за истории? Я не знала.
Диктовка занимала больше времени. Я чувствовала себя сковано, потому что не привыкла произносить вслух свои мрачные мысли. У меня не получалось легко погружаться в разум серийного убийцы, а ведь именно эта способность делала мои истории такими креативными и убедительными.
Отец нахмурился, глядя на протянутую стопку бумаг. Она была большой. Стопка. Лента, скрепляющая ее, сильно натянулась, и у меня болело запястье от тяжести. Я могла бы перевязать его. Так было бы гораздо удобнее. Но именно так я протягивала отцу свою первую книгу, напечатанную на нашем старом семейном принтере, местами не отпечатывающим слова.
Я не была сентиментальной. Именно так я говорила себе.
Отец взял книгу, посмотрел на обложку и нахмурился.
— «Осколки. Магнолия Грейс». — Он прочитал название вслух, затем поднял глаза на меня. — Вы — Магнолия Грейс.
В горле застрял ком. Он не сформулировал фразу как вопрос, скорее утверждал с неуверенностью. Он пытался вспомнить, примерно так же, как делаете вы, когда пялитесь на кого-то на вечеринке, задаваясь вопросом, встречались ли вы с ним раньше.
— Я.
Мой голос дрожал.
В присутствии хладнокровных убийц, самого известного серийного убийцы десятилетия — его, кстати, поймали — и членов самой смертоносной мотоциклетной банды в мире, я оставалась невозмутимой. Но в присутствии доброго, спокойного человека, который вырастил меня, но не узнавал, я рассыпалась на куски.
Отец крепче сжал стопку бумаг и на его лице отразились ярость и разочарование.
— Я вас знаю?
Я сглотнула. Вкус меди наполнил мой рот, когда я закусила губу.
— Раньше знал.
Он уставился на меня.
Сегодня я очень постаралась выглядеть хорошо, как и в любой другой день. Потому что это я могла контролировать. Каре, которое недавно сделала, было гладким и идеально доходило длиной до подбородка. Черный по-прежнему оставался единственным цветом в моем гардеробе, довольно большом в доме Эмили, потому что она не настолько сильно привязывалась к материальным вещам, как я.
Сейчас я вносила в ее дом свои штрихи, сохраняя при этом ее суть. Эмили стала моим ангелом-хранителем. Без нее я не написала бы книгу, которую держал в руках мой отец. У меня не было бы шрамов, физических и эмоциональных. Я чувствовала с ней родство.
— Папе. — Отец начал читать вслух посвящение. — За то, что дал мне силы взглянуть на свои ужасы и превратить их в искусство.
Он поднял глаза.
— Это я, — сказал он тихо. — Я — папа.
Я кивнула, потому что не верила, что смогу что-то сказать. Глаза заслезились, но я не могла позволить себе плакать. Я могла плакать, когда писала, потому что считала это нормальным. Этого требовала история. Я могла жертвовать собой ради искусства и делала подобное не единожды, но не могла поддаться слабости. Или ностальгии.
— Мэгги? — голос отца стал более узнаваемым.
Он стал почти похож на себя прежнего, даже если все остальное в нем было не так. Одежда, которую выбрала для него моя мать. Комната, за которую я платила, и которая смотрелась очень уютно. В ней были книги — правда, ни одной моей, фотографии — тоже ни одной моей, шахматная доска и ковер из его кабинета. Но какой бы дорогой эта комната ни была, сколько бы удобств в ней ни было, дверь в нее запиралась снаружи и пахла она утратой, чистящими средствами и пожилыми людьми. Сколько бы денег у вас ни было, вы не сможете скрыть этот запах.
— Мэгги, — повторил он.
— Да, папа.
Он снова посмотрел вниз.
— Еще одна книга?
Я кивнула.
— Ты повзрослела.
Я знала, что отец говорит не о морщинах на моем лице. У меня их не было. Лучшие хирурги страны следили за тем, чтобы с тех пор, как отец видел меня в последний раз, на моем лице ничего не изменилось. Но я знала, что он видел. Он видел годы, которые я не прожила. Годы, которые я отняла у других. Годы, отнятые у меня.
— Да, папа, — согласилась я.
Он посмотрел вниз, перебирая страницы.
— «Ее кровь подобна вину. Выдержанному. Насыщенному. Редкому. Никто, кроме меня, не прольет ее».
Его глаза встретились с моими. Ясные. Причиняющие боль.
— Хорошее начало, Мэгги.
Так и было, ведь эти слова сказала я.
А потом мой отец ушел. Я смотрела, как он уходит, как покидает это здание. И видеть это оказалось хуже, чем смотреть, как умирает человек. Мне следовало бы знать, ведь я наблюдала за смертью человека. Дважды.
В тот день Сент приехал в гараж, чтобы спасти положение. Он увидел, что я стою, успев освободить больную руку от скотча. Я все еще держала пистолет, потому что не была настолько наивной, чтобы опустить его, не убедившись, что мне не нужно никого убивать, чтобы выжить.
Жадность умирал медленно. И громко. Он издавал много резких, влажно звучащих стонов. Я наблюдала за его мучениями. Смотрела в его широко распахнутые, молящие глаза и знала, что мои были равнодушными и неумолимыми.
— Твоя мать, — сказал мой отец. — Где она?
Скорее всего, она стояла за дверью, прижавшись к стене, и ждала, когда ее ужасная дочь скажет что-нибудь, что расстроит человека, который больше не узнает ее.
— Ей нужно…, — замялся он, смутившись. — Это не наш дом. Это неправильно. Мне нужно…, — он снова замолчал, сосредоточившись на мне.
Сосредоточившись на мне, как незнакомец может смотреть на агента TSA, проводящего его через металлоискатель. Уважительно, потому что так надо, но с готовностью забыть его, как только он отойдет.