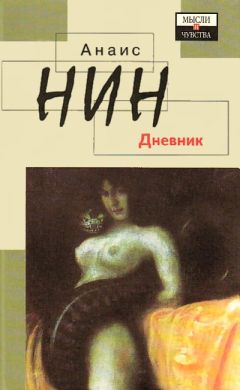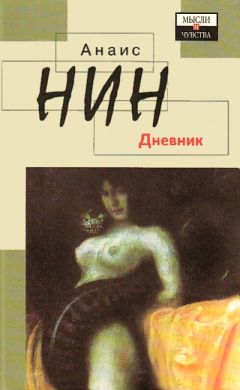Генри оказался свидетелем первого проявления моей слабости, первой вспышки ревности и упивался этим. Раз я женщина, способная все понять, от меня ждут, что я должна все принимать, со всем соглашаться.
Но я намерена потребовать все, что мне причитается. Я верну Генри и Джун друг друга, «умою руки» и забуду о любых сверхчеловеческих обязанностях.
Человек не может научиться меньше страдать, но он способен научиться уворачиваться от источников боли. Я подумала об Алленди. Да, это выход из положения. Его идеи поддерживают меня. Именно Алленди доказал, что многие способны понять меня, что нельзя цепляться за соломинку и что страдать человеку вовсе не обязательно. Мне кажется, я до конца осознала свое чувство к нему той ночью — когда мы разговаривали о нем с Генри. Он говорил об Алленди как о чувственном мужчине. Я хорошо помню, как мой психоаналитик выглядел в нашу последнюю встречу. Тогда я была слишком занята Генри. На днях я написала Алленди благодарственное письмо, вложив в конверт одно из писем Генри ко мне. Я как будто хотела доказать ему, как эффективен оказался его психоанализ. На самом деле я просто хотела заставить Алленди ревновать.
Генри уникальный человек. Он неповторим. Но я должна идти дальше, к новым ощущениям. И все-таки сегодня вечером я думаю, как улучшить его последнюю книгу, как подбодрить его, успокоить.
Генри придал мне достаточно сил, и я при необходимости способна обходиться без него. Я перестала быть рабыней проклятия своего детства. Я искала иллюзий, чтобы забыть детство, но теперь они мне не нужны. Я хочу настоящей любви. Я намерена убежать от Генри и собираюсь сделать это как можно быстрее.
Вчера он приехал. Серьезный, усталый Генри. Он сказал, что не мог не приехать: он не спал несколько ночей — не мог оторваться от книги. Я мгновенно забыла все свои печали. Генри и его книга должны содержаться в холе и неге.
— Чего ты хочешь, Генри? Полежать? Выпить вина? Да, это та комната, в которой я работала. Не целуй меня сейчас. Мы пообедаем в саду. Мне много нужно тебе сказать, но все это может подождать. Все потом. Главное — твоя книга.
Генри, бледный и напряженный, с почти выцветшими от усталости глазами, сказал:
— Я приехал, чтобы сказать тебе: работая над книгой, я понял, что между мной и Джун все кончилось три или четыре года назад. Наша совместная жизнь здесь была автоматическим продолжением, привычкой, подобной тому, как тело, движущееся с большой скоростью, не может сразу остановиться. Это было испытанием, и я приобрел колоссальный опыт. Поэтому я сейчас так легко пишу. Но это моя лебединая песня. Я люблю тебя. Я хочу, чтобы ты поехала со мной в Испанию — под любым предлогом — на несколько месяцев. Я мечтаю о нашей совместной работе. Я хочу, чтобы ты была рядом. До тех пор, пока все не сложится так, чтобы я мог взять на себя заботы о тебе. Я получил горький урок с Джун. Вы обе не можете цвести в однообразии и грубости. Я не стану просить тебя о такой жертве.
Я сидела рядом, совершенно ошарашенная. Генри продолжал:
— Я должен был пройти через все это, но теперь кончено. Я испытываю совершенно новую любовь, чувствую себя сильнее Джун, хотя, если она вернется, все может начаться сначала. Наверное, я хочу, чтобы ты спасла меня от Джун, чтобы она не уничтожила, не унизила меня снова. Я совершенно уверен, что хочу порвать с ней. Я боюсь ее возвращения — она разрушит и уничтожит всю мою работу. Я завладел всем твоим временем и вниманием, заставлял тебя волноваться, даже обижал, другие люди тоже перекладывают на твои плечи свои проблемы, просят найти выход из трудной ситуации, помочь. И все-таки тебе удается писать, как никому другому — так, что никто тебя не ругает и никто не помогает.
Над этими словами я засмеялась:
— Но, Генри, ты меня ругаешь! Это ты отстаешь от времени, и я дам тебе шанс догнать его.
Я рассказала ему о буре, которую пережила за последние дни. Я чувствовала себя как приговоренный к смерти, которого внезапно помиловали. Неважно, станет ли Джун пытаться вернуть Генри. Мы с ним теперь неразрывно связаны. Потом мы любили друг друга, но это соитие было всего лишь символом, знаком. Все произошло так стремительно, что мне казалось, будто мы парим в невесомости.
Я написала о Джун тридцать страниц, в яркой и образной манере. Это лучшее, что я написала за последнее время. Очень полезно, когда кульминацией лабораторных экспериментов оказывается лирический всплеск.
Вчера я получила большое удовольствие в «Гран-Гиньоль», наблюдая за женщиной, извивающейся на черном бархатном диване. Вульгарная шлюха изображала предвкушение страсти, доставая с полки свою пижаму. Я почувствовала сильное сексуальное возбуждение.
Мы с Хьюго отправились в другой дом, но женщины там оказались еще более некрасивыми, чем на улице Блондель, 32. По комнате с зеркальными стенами ходило стадо пассивных женщин, которые выглядели, как животные. Они старались двигаться в такт музыке. Я многого ждала от этого визита и потому едва поверила своим глазам, когда эти уродки вошли в комнату. В моем представлении танец обнаженных женщин должен был смотреться как очень красивая сладострастная оргия. Но увидела я подпрыгивающие груди с большими коричневыми сосками, голубоватые ноги, отвислые животы, беззубые улыбки… Вся эта мясная груда равнодушно брела по кругу, как деревянные лошадки в карусели, и мои чувства угасли. Это была даже не жалость, а холодное отстраненное наблюдение. Снова однообразные позы, в паузах между которыми женщины целовали друг друга — бесстрастно, даже бесполо. Бедра, плоские ягодицы, темные треугольники между ног — все это было настолько отвратительно, что нам с Хьюго понадобилось два дня, чтобы избавиться от ассоциации с ними при взгляде на мое тело, мои ноги, мои груди.
И все-таки мне очень хотелось бы на одну ночь стать одной из них, войти обнаженной в комнату, взглянуть на зрителей — мужчин и женщин, увидеть их реакцию на мое появление, на призрачное свечение моего тела.
Эдуардо считает, что даже его страдания и боль высокоинтеллектуальны. Я нарочно заставляю его читать книгу Генри, которую он терпеть не может. Эдуардо косится на мою грудь, потом бледнеет и решает уехать в Париж более ранним поездом.
Сегодня я чуть не сошла с ума от тоски по Генри. Не могу прожить без него и трех дней. Счастливое, ужасное рабство! О, как хорошо быть мужчиной! Они удовлетворяют свои потребности так легко, так неразборчиво!
Пройдя множеством извилистых дорожек и троп, я согласилась с простым утверждением Алленди: любовь исключает страсть, а страсть — любовь. Только однажды наша с Хьюго любовь превратилась в страсть. Мы тогда отчаянно скандалили после возвращения из Нью-Йорка. Точно так же Джун подарила страсть Генри. Я могла бы дать ему море, океан любви, но не стала этого делать, потому что ценю страсть выше. Возможно, я сейчас ослепла и просто не вижу иных, более достойных ценностей. Мое примирение с Генри очень опасно, оно может обернуться любовью. Мне нужно было не просто заставить Генри ревновать к Алленди, но действительно изменить ему. Это могло бы возвысить нашу любовь до страсти. Когда Генри пишет мне или обо мне, меняется даже его лексика, он пишет не так экстравагантно, более глубоко. Сама я возбуждена до предела и хочу только страстных проявлений чувств. Но Алленди заставил меня опасаться обдуманных поступков, а инстинкт снова и снова возвращает меня к любви.