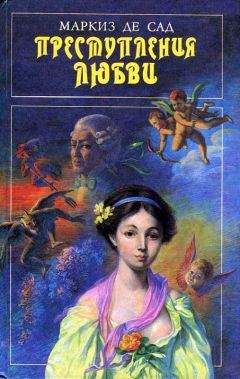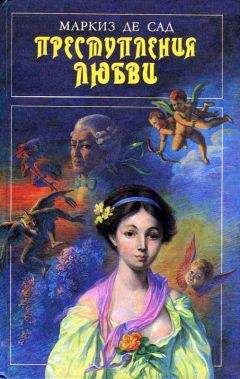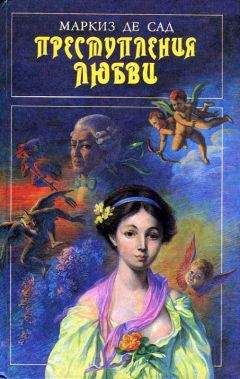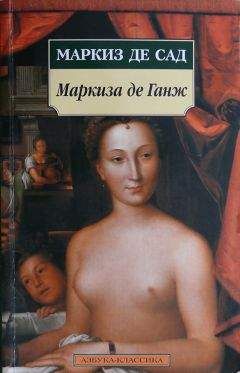С первых же дней госпожа де Веркен уведомила меня, что ей не нравится мой унылый вид. Для девушки, выросшей в Париже, просто неслыханно столь неуклюже вести себя в обществе, до смешного воздержанно… и, если я желаю ужиться с ней, мне следует изменить свое поведение.
Подобное начало встревожило меня. Я не пытаюсь выглядеть в ваших глазах лучше, чем я есть на самом деле, сударь, но все, что противно приличиям и религии, никогда не вызывало во мне одобрения. Я всегда выступала противницей того, что оскорбляло добродетель, а порочные затеи, в которые меня вовлекли помимо моей воли, пробудили во мне столь тяжкие угрызения совести, что, признаюсь вам, возвращение в общество меня вовсе не радует. Я не создана для светской жизни, ибо в ней я чувствую себя невежественной дикаркой. Полнейшее уединение более всего созвучно складу моей души и наклонностям ума.
Подобные мысли, однако еще недостаточно окрепшие для тогдашнего моего возраста, не оберегли меня ни от дурных советов госпожи де Веркен, ни от пороков, в объятия которых коварные речи ее неминуемо должны были меня завлечь. Я постоянно пребывала в окружении общества, предающегося шумным увеселениям; примеры и наставления, получаемые мной, возымели свое действие. Меня уверяли, что я хороша собой, и я была столь дерзка, что, на свое несчастье, поверила этому.
В то время в Нанси, столице Лотарингии, квартировался Нормандский полк. Дом госпожи де Веркен всегда был открыт для его офицеров. У нее в доме собирались и все молодые женщины города. Там завязывались, разрывались и начинались новые интриги, обсуждаемые затем всеми городскими жителями.
Вероятно, что господину де Сен-Пра неведома была и половина поступков этой женщины: иначе как мог он, будучи самых строгих правил, решиться отправить меня к ней? Подобная мысль сдержала мой порыв пожаловаться ему. Надо ли объяснять дальше? Порочный воздух, коим приходилось мне дышать, начал разъедать мое сердце, и, попав в ловушку, словно Телемак на острове Калипсо, я должна была погибнуть без наставлений Ментора[1].
Бесстыдная Веркен, уже давно искавшая способ моего совращения, однажды спросила меня, действительно ли я приехала в Нанси с сердцем, не отягощенным разлукой с оставшимся в Париже любовником.
— Что вы, сударыня, — ответила я ей, — у меня даже в мыслях не было тех пороков, в коих вы меня подозреваете, и господин брат ваш может поручиться за мое поведение.
— Пороки! — перебила меня госпожа де Веркен. — Единственный ваш порок — это то, что в вашем возрасте вы все еще невинны. Но надеюсь, что скоро вы от него избавитесь.
— О! Сударыня, разве можно мне выслушивать подобные речи от столь почтенной женщины?
— Почтенной?.. Ах, ни слова больше! Заверяю вас, дорогая, что почтение относится к тем чувствам, которые я менее всего хочу пробудить в других. Я хочу внушать любовь… а отнюдь не почтение! Чувство это пока еще не пристало моему возрасту. Бери с меня пример, дорогая, и ты будешь счастлива… Кстати, ты обратила внимание на Сенваля? — добавила эта сирена, напомнив мне о молодом офицере семнадцати лет, часто бывавшем у нее в доме.
— Не более, чем на других, сударыня, — ответила я. — И смею вас заверить, что он, как и прочие мужчины, мне глубоко безразличен.
— Но это-то и глупо, маленькая моя дурочка. Я хочу, чтобы отныне мы вместе приумножали победы наши… Надо, чтобы ты соблазнила Сенваля: он — мое творение, я взяла на себя труд образовать его. Он любит тебя, надо его заполучить…
— Сударыня! Увольте меня от этого! Клянусь вам, что ни один мужчина не кажется мне достойным внимания.
— Но так надо, я уже обо всем договорилась с его полковником, моим дневным любовником, как тебе известно.
— Умоляю, не принуждайте меня, я не нахожу в себе ни малейшей склонности к удовольствиям, столь вами ценимым.
— Пустяки! Это пройдет! Когда-нибудь они понравятся тебе так же, как и мне; очень просто не ценить того, чего не знаешь, и уж совсем непозволительно не знать того, что создано для наслаждения нашего. Одним словом, все решено: сегодня вечером, мадемуазель, Сенваль признается вам в любви. Извольте, не заставляйте его томиться слишком долго, иначе я рассержусь на вас… весьма серьезно.
В пять часов собралось общество. Так как было очень жарко, все вышли в сад и, разбившись на группы, разбрелись среди деревьев. Все было подстроено так, что господин де Сенваль и я остались вдвоем, не сумев примкнуть ни к одной из групп.
Нет нужды говорить вам, сударь, что сей любезный и остроумный молодой человек без промедления открыл мне свою страсть, и я также почувствовала необоримое влечение к нему. Когда же затем я стала искать причины возникшей у меня симпатии, то совершенно запуталась. Мне казалось, что склонность эта не является обычным чувством: некая завеса скрывала от меня истинный характер ее. С другой стороны, когда сердце мое устремлялось к нему, словно некая могучая сила удерживала меня. И в этой сумятице… в вихре налетавших и мчащихся прочь чувств я не могла найти ответ, должно ли мне любить Сенваля или надобно порвать с ним навеки.
В распоряжении Сенваля было достаточно времени, чтобы поверить мне свою любовь… Увы, даже слишком много! Я тоже постаралась не выглядеть бесчувственной в его глазах. Он воспользовался моим замешательством, потребовал доказательства чувств моих, я проявила слабость, сказав, что усердие его мне не безразлично, и спустя три дня малодушно дозволила ему насладиться своей победой.
Воистину неисповедима злобная радость порока, торжествующего над добродетелью. Ничто не могло сравниться с восторгами госпожи де Веркен, охватившими ее, как только она узнала, что я попалась в расставленную ею ловушку. Она подшучивала надо мной, веселилась и наконец заявила, что я, сделав сей необычайно простой и дальновидный шаг, могу спокойно принимать любовника своего каждую ночь у нее в доме… Слишком озабоченная своими делами, она не станет обращать внимания на подобные пустяки; тем паче не будет она и любоваться моей добродетелью, ибо ей было совершенно ясно, что я остановлю свой выбор на одном-единственном любовнике. Она же, оказывая услуги одновременно трем любовникам, была невысокого мнения о моей осмотрительности и скромности. Когда я осмелилась сказать, что распутство ее отвратительно и полностью лишено тонкости чувств, что оно низводит пол наш до положения самых гнусных животных, госпожа де Веркен расхохоталась.
— О прекрасная дама из рыцарских времен, — сказала она мне, — я любуюсь тобой и не сержусь. Я прекрасно знаю, что в твоем возрасте утонченное воздыхательство возводится на пьедестал и ради него приносят в жертву наслаждение. Однако для меня это в прошлом: введенные в заблуждение эфемерными признаками возвышенных чувств, мы постепенно сбрасываем их иго, и утехи сладострастия, значительно более реальные, заступают на место восторженных глупостей.