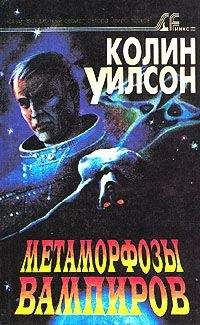— Все, идем. — Крайски решительно пустился в гущу растительности. Побеги тревожно отстранились, обнажив, как оказалось, вполне достаточно места для прохода. Карлсен поторопился следом. Растения, очевидно, обла— дали телепатией, спешно рассылая предостережение: не нападать. Правда, самые толстенные с недобрым интересом норовили иной раз прикоснуться, но тут же отдергивались, получая за чрезмерное любопытство. Карлсен ре— агировал со спортивным азартом: все равно, что шлепать мух остриями молний. Если заряд удавалось выпустить вовремя, то чувствовалось, как удар, обжигая, разрушает растительные клетки, если запаздывал, растение со змеиным проворством ускользало.
Пробираясь через эти извивающиеся заросли, Карлсен глухо подумал, что ведь их двоих, в сущности, легко одолеть, стоит этим растениям накинуться скопом. Ведь могут обвить таким бревном, что никакой энергии не хватит отбиться. Однако главным их оружием был страх: он волной катил вперед, облекая их спасительным коконом. И видя, как растения по ходу опасливо утягиваются, освобождая проход, Карлсен проникся по-хищному азартной радостью, убеждаясь: пассивность восприятия — иллюзия.
После мили с лишним подъема впереди забрезжило что-то ярко-желтое — сначала подумалось, что сера. Теперь различалось, что для вулканического конуса поверхность чересчур уж плоская и однотонная — наверное, какая— нибудь растительность. На подходе к краю зарослей впереди открылась та алая кайма, что заметна была с озера. Через несколько минут они вышли из зарослей, которые тотчас сомкнулись непролазной чащобой, и взору предстала глинистая почва с гладкими синими камнями вроде речных голышей.
Воздух наводнился вдруг странным звуком, напоминающим отдаленный перезвон сотен колокольцев. Звук, почему-то, навеивал мысль о холодной воде, плещущей в серебристом ручье — от невнятного восторга пронизывала дрожь.
От влажноватой глины под ногами веяло чем-то с детства знакомым. Вспомнилось: так пахло возле незапамятно старого амбара, чудом уцелевшего с прежних времен за домом, где жила Билли Джейн.
Карлсен, подняв, поднес к уху один из камней: он как раз и позванивал — тоненько, по-волшебному.
— Я вижу, ты урок так и не усвоил, — с укоризной заметил Крайски.
— Ты о чем?
— Об осторожности.
Карлсен недоуменно оглядел камень, округло-нежный, как птичье яйцо.
— Ты об этом? — он замахнулся было бросить, но рука как-то не поднялась. — И что в нем такого?
— Это все тот же зоолит. Звук привлекательный, и ты, конечно же, сунешь его за пазуху. А проснешься утром, и он уже наполовину под кожей, как пиявка, и отсасывает энергию.
Карлсен поспешно отбросил камень. Звон мгновенно оборвался.
— Смотри, — произнес Крайски в наступившей тишине. Он поднял один из камней, и перезвон тотчас возобновился. Крайски швырнул камень в заросли. Секунда-другая, и тот вылетел обратно. Перезвон смолк. Так кошка, мурлыча в надежде на съестное, умолкает, смекнув, что подачки не жди.
— Видишь, они его к себе на дух не подпускают. Карлсен тоскливо посмотрел в сторону вершины.
— Странное место. И сколько ж еще нас ждет напастей?
— С головой на плечах избежим любую, — успокоил со смехом Крайски.
Пояс красной глины был примерно в четверть мили шириной. Карлсен с восторженной жадностью, полной грудью вдыхал ее запах. На такой высоте воздух словно продувал легкие. Желтая растительность, когда приблизились, оказалась чем-то вроде сухой желтой травы: жесткая и глянцевитая, она словно прилизана была к красной почве.
— А на глине почему трава не растет? — поинтересовался Карлсен.
Крайски лишь улыбнулся, ничего не сказав. С глины ступили на траву. Гладкая, приятная на ощупь, как и ожидалось, и почему-то прохладная. Но не пройдя и десятка ярдов, Карлсен уловил: что-то происходит. Влажные подошвы стало покалывать от ксилл-энергии, проникающей теперь снизу через все тело. А когда дошло до лица (щеки так и горели от избытка вентиляции), кожу на нем будто зажгло, и закружилась голова.
— Ничего, если я присяду? — неуверенно спросил Карлсен.
— Я бы не стал. Только хуже будет.
— А что происходит?
— Шагай себе, и все будет нормально, — только и ответил Крайски.
Становилось все неприятнее: сердце ухало по-пьяному тяжело. Энергия накачивала будто шар, нагнетая нервное напряжение. Внутренности свело как от волнения перед выходом на сцену. Будь в желудке еда, непременно бы вы— рвало. Карлсен глазами поискал, где можно сесть — ни камня, ни пенька, лишь желтая трава вокруг, как песок в пустыне.
Видя, что на помощь Крайски рассчитывать не приходится, Карлсен прибег к концентрации, стремясь максимально контролировать растущее напряжение. При этом он зашелся кашлем: казалось, секунда, и набрякшая голова лопнет. Попробовал фокусировать внимание без концентрации — полегчало, но ненадолго — тошнота постепенно возвратилась вместе с притекающей из травы энергией.
Следующие полчаса прошли в вязкой пелене дурноты. Карлсен плелся, сбивчиво переставляя ноги, и волны тошноты сдерживал тем, что напрягал и перенапрягал внимание.
— Почти уже дошли, — послышался голос Крайски.
Карлсен, открыв глаза, мутно посмотрел вперед. На облегчение, впереди в сотне ярдов расплывчато маячила вершина горы. Он убыстрил шаг, но быстро убедился, что зря: кашель нашел такой, что пришлось остановиться.
— Что, проблемы?
Сквозь дымку навернувшихся слез он разглядел улыбающегося молодого человека — судя по виду, гребира. Выговорить ничего не удавалось, и Карлсен ограничился кивком.
— Не беспокойся, сейчас все будет о'кей.
«О'кей» — американизм дал понять, что к нему обращаются на английском («Дожидаются, видно», — вяло отложилось в мозгу).
Правой рукой юноша приобнял Карлсена и остаток пути они проделали сообща. Почувствовав у себя на поясе его руку, Карлсен почувствовал, что тошнота вроде бы схлынула, хотя голову по-прежнему кружило и било гро— мовым пульсом изнутри.
Вершина Горша представляла собой обширную площадку, поросшую желтой травой, среди которой белело несколько странноватого вида палаток. Посреди находилось круглое озерцо, такое же синее, как озеро, где, невзи— рая на прохладный ветер, плескались несколько нагих юношей — бронзовых от загара, мускулистых.
Спустя несколько минут купальщиков прибавилось. Лица их, под стать телам, были обветрены, с крепким загаром — если б не толанская удлиненность черт, они могли бы сойти за молодых работяг-фермеров во время страды. Однако, твердые губы и льдистые глаза выдавали аскетично жесткий уровень самодисциплины.