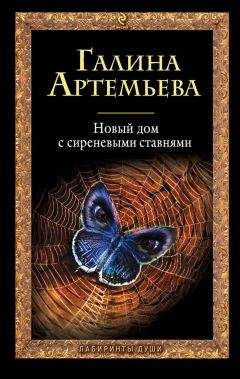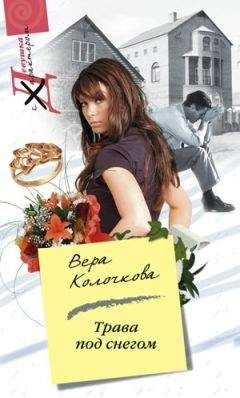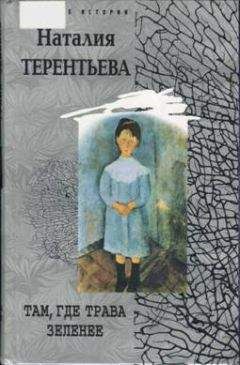Несколько дней она не находила себе места, все ходила степными тропами, заглядывала во мрак густого леса, где орешник стоит непроходимой стеной, а дуб морщится, очервивев. Того, кого она искала, сутуловатого и длинноволосого, нигде не было. Она съездила еще раз в Дивы, но нашла там только ряженых студентов с картонными мечами и гитарами. Уже осуждающе смотрели на нее на улицах, Ульяна словно не решалась что-то высказать, только звонче била молочными струями по ведру, сидя у Валюхиного вымени, и Ташке представлялось, что и Валюха – большая, лобастая корова с черным пятном на глазу и заляпанными жижей ногами – разделяет недовольство ею, слишком уж сильно колыхались коровьи розовые ноздри и бил по бокам хвост, когда Ташка входила в кошару сообщить хозяйке о своем уходе.
Как-то Ташка осмелилась спросить, много ли в деревне молодежи. Ульяна назвала нескольких парней, перечислив заодно всю их старшую родню, но по описанию они не были похожи на Степунка, да и возрастом, судя по всему, не дотягивали. Потом переключилась на девчат: кто ленивый, кто гулящий, кто лицом плох… Ташка слушала в пол-уха, но насторожилась, когда Ульяна дошла в своих рассказах до дочки фельдшера: „Ну а Михалычева дивчина, Светка, шо казать, чипурна, бойка, прямо королевна!“
Не особенно доверяя Ульяниным словам, Ташка стала по вечерам как бы невзначай проходить мимо школьного двора, где собиралась разновозрастная деревенская компания. Хрипел допотопный кассетник, слышался девичий визг и чей-то зарождающийся басок в перерывах между затяжками. Потом откуда-то из-под скамьи появлялась бутыль и хлопали яблоневые ветки, неохотно отдавая на закуску свои еще мелкие и кислые плоды. Нет, Степунка не было и здесь. И Ташка поняла, что его не будет, не может быть, когда чернявая, с жирным малиновым слоем на губах девица повисла локтями на заборе, вздернув футболку над круглыми, обтянутыми пестрым трикотажем бедрами, и звонко крикнула ей: „Огоньку нэмае?“.
Ташка встретила его, уже потеряв всякую надежду. Встретила так, как встречают соседей или новый день. Она делала обычные три шага с крылечка крохотного сельского магазина, где в одном ряду тюки с материей, черствый хлеб и грабли. Сетка приятно натягивала руку, отворачивая локоть назад, терли щиколотку купленные здесь же кеды. А он сидел на бревне поодаль, курил.
– О-о-о-о! – протянул он по-дружески, вынул сигарету изо рта, распахнул руки, губы. И тут же закурил снова. Предложил Ташке „Беломор“. Она села рядом с ним, стала затягиваться подряд, нагнетая горечь в горле и легкость в мыслях. И уже не мучила себя ожиданием любви, просто смотрела на дым, на смуглую кожу Степунка, сбоку – на полукружья его зрачков, потускневших до серости в этот затянутый белесой дымкой день. Его молчание было так больно, что она, вопреки страстному желанию видеть перед собой это существо, всякую секунду порывалась уйти, и в одну из таких секунд ее взгляд скользнул по его виску, пробрался под кончики волос и нехотя коснулся малиновой, с перламутровым отливом полосы. Ташка вспомнила неровно подкрашенные губы на пышущем здоровьем лице и отодвинулась, встала.
В его глазах застыл вопрос, но негромкий, нетребовательный. Не дождавшись ответа, он отвел взор, потянулся за спичками, стал прикуривать новую, а Ташка в вечной, глупой человеческой уверенности, что все лучшее останется с нами навсегда, еще какое-то время чертила резиновым носком круги на дорожной пыли, а потом пошла, не прощаясь.
Она выдержала недолго и оглянулась: у бревна валялась лишь мятая пачка „Беломора“.
О, как кинулась она за огород, в балки, заскочив в дом лишь затем, чтобы швырнуть сетку на клеенчатый стол. Еще не наступила та душевная пустота, что тенью следует за потерей и предшествует смирению, еще душила гордость, яростное желание оставить себе то, что полюбилось. „Какой-то след помады! Как это пошло, шаблонно, грубо! Словно капкан на самом виду!“ – восклицала она и, не в силах сдержать себя, упала в цветущий клевер, сунула руку под майку, сжала грудь, скрутила сосок, продела злыми пальцами ежик лобка и согнула их в себя…
– Наталья! – окрикнул ее возмущенный мужской голос. – Наталья, да прекрати же! – Она дернулась вперед, села. Прорези ее сухих глаз были словно застеклены. Из-под пояса расстегнутых брюк появилась рука и скрылась за спину, чтобы вытереться о траву. Сквозь зубчики брючной молнии торчали рыжие волосы. – Не замечал за тобой раньше таких наклонностей! Что ты делаешь? Ты слышишь меня? Почему ты здесь, в этой дыре, в этом убожестве?! Я сказал ждать меня в городе! Да встань же, в конце концов!!! – Глеб потащил ее за предплечье вверх, а она бессмысленно пялилась на его ослепительные белые шорты, такие же кроссовки и высокие носки с двумя голубыми полосками, и рот ее был по-дурацки приоткрыт, словно в нем пенилось невысказанное.
Глеб увез ее дальше на юг, к морю. В дороге и когда потянулись одинаковые, аккуратные, как гостиничные простыни, дни, с его лица не сходила мучительная обреченность, она пряталась в складках между бровей и, как у всякого склонного к благополучию человека, выглядела чем-то неестественным и недолговечным. Ташка довольно быстро преодолела нервное расстройство, увлеклась приморскими развлечениями, но стала как будто не собой и даже вечером не снимала черных очков, словно защищаясь от излишней курортной нарядности.
Так прошел отпуск. Они вернулись в город, и жизнь пошла своим чередом…
Но в августе Полина Федоровна получила письмо от Ульяны. Длинное, путаное, все более об огороде: о том, что арбузы и дыни начали зреть и некоторые уже лопаются, вишня засохла на ветках – некому снять, а картошку заели жуки. Потом – о ценах на молоко, о том, что невестка ленится продавать на поселковом рынке удой, особенно большой в это лето. И на закуску – сельские новости: двое стариков умерло от жары, третий – от пьянки, то и дело зовут Ульяну лепить пирожки на поминки, хлеб вздорожал, а фельдшерова дочка Светка упала с лестницы, когда лазила красить крышу, и теперь лежит со сломанной ногой в райцентре; парни приуныли без первой красавицы и винят во всем черта лысого, что новую лестницу, только что отцом ее, Михалычем, сбитую, взял да и подпилил.
Полина Федоровна, усадив внучку рядом, прочитала ей все от начала до конца, как полноценному члену своей родни. Ташка слушала, не шевелясь, будто думая о своем, а на следующий день, никому ничего не сказав, вылетела внутренним авиарейсом. Она старалась внимательнее смотреть по сторонам и не закрывать глаз ни на минуту, чтобы не дай Бог не начать думать, зачем все это делает.
В деревне, чудилось, уже осуждали ее нечистые намерения. И лошади во встретившейся на дороге упряжке смотрели, бычась, и у самой автобусной остановки сновала крючковатая старуха в болтающихся калошах. Это хлюпанье Ташка узнала сразу же: старуха видела их со Степунком в балке – сейчас вся деревня узнает, зачем пожаловала Ташка.