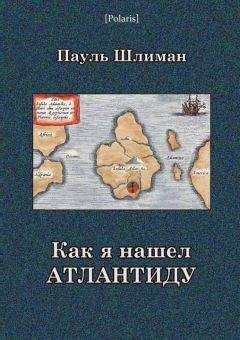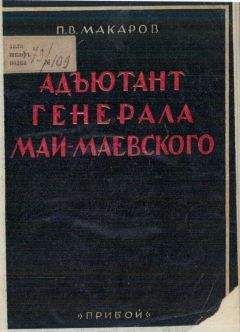Коридоры и переходы тянулись, чередовались, безмолвствовали.
* * *
Менкаура откинулся в кресле, устало прикрыл глаза.
Лицо египтянина было напряжено, застывшие черты меняли выражение лишь когда короткая нервическая судорога пробегала по мимическим мышцам.
Писец фараона и наставник царевича поспешно решал, как поступить.
На столике перед Менкаурой красовался в золотой филигранной подставке большой, исключительно прозрачный и правильно выточенный хрустальный шар. В продолжение последних часов Менкаура почти безотрывно глядел в него, вдыхая ароматы странных курений, по-прежнему дымившихся в маленькой, испещренной древними иероглифами жаровне.
Воспитанник высшей жреческой школы в Мемфисе, египтянин поступил на службу при та-кеметском дворе, обладая навыками и познаниями, недоступными простому смертному, благодаря чему и совершил быстрое, блестящее восхождение по служебной лестнице.
Некоторые обстоятельства, лучше всего известные самому писцу, побудили его просить сына Ра о дозволении принять любезную просьбу царицы Арсинои, отправиться на Кефтиу и отслужить тамошним государям двенадцать лет в качестве преподавателя.
Полученное образование за плечами носить не приходилось, в отличие от небольшого узла с непонятными принадлежностями и инструментами, первоначально лежавшими безо всякого дела.
Но, когда миновало немного времени, и Менкаура начал крепко подозревать истинную подоплеку странных и необъяснимых вещей, то и дело творившихся вокруг, узелок возник из объемистого ларя, был развязан, и содержимому сыскалось должное употребление.
Звездочет поведал Иоле и Эпею только малую кроху правды, сказав, будто забавляется астрономией, дабы не одичать в обществе царевича. Хотя и это было отчасти справедливо. Но истинная цель Менкауры была совершенно иной.
Во мраке ночном, незримо и неслышно для окружающих, египтянин затворялся, вершил краткие, запретные для непосвященных ритуальные действия и подолгу смотрел в хрустальный шар, где, зримые лишь ему одному, проплывали картины дворцовой жизни во всей неприглядности, полной откровенности свершаемого.
Сначала Менкаура пришел в ужас.
Потом в негодование.
Затем взялся наблюдать всерьез, делая на папирусе подробные заметки на давно забытом, известном только жрецам Та-Кемета языке. Даже очутись эти записи в чужих руках, никто не сумел бы разобрать ни слова.
Нынешней ночью писец уведал о намерениях своего греческого приятеля, проследил, куда препроводили Эпей и этруск негодующую, но пискнуть не смевшую царицу, понял, в какую сторону мчится начальник стражи...
Видел сплетения стонущих и вздрагивающих женских тел во многочисленных спальнях и купальнях, где вершились еженощные оргии.
Морщился.
Видел также бессмысленно плутающую в дворцовом лабиринте Лаодику; понял, куда она, сама того не подозревая, движется.
«Если я не вмешаюсь, — подумал Менкаура, — им конец... Во всяком случае, Эпею. Олух просто не представляет, сколько выносливости потребует полет над просторами Внутреннего моря. И уже сейчас растрачивает силы без оглядки, попусту, без остатка».
Догадали же... как там у них, эллинов, говорится? Догадали же гарпии пробираться в подземелье к андротавру! О чем только думал Эпей, любопытно знать?
Менкаура вздохнул.
Допустим даже, мастеру посчастливится улизнуть от чудовища — а это было весьма затруднительно... Изнуренный бегом, возможно стычкой, в которой мог рассчитывать исключительно на милость богов да на свои клинки, Эпей окажется просто не в состоянии выдержать грядущий полет — первый, кстати; полет на ощупь, наобум, требующий полной сосредоточенности, сообразительности, ловкости...
А ничего этого и не будет у измотанного, невыспавшегося, пережившего немалые потрясения человека...
Менкаура любил Эпея, любил Иолу, желал обоим всяческого добра — и глубоко презирал предержащих власть в Кидонском дворце. «Ватага преступников», — часто размышлял писец, глядя в пространство и морща чело.
«Если бы не уговор, не обещание отслужить ровно десять лет... Если бы не злополучное происшествие в нильских тростниках, понудившее искать приюта за морем, покуда история не сотрется в памяти соплеменников!.. Нечего делать, надобно жить среди дворцовой сволочи, притворяясь, будто не ведаешь, не смыслишь, не подозреваешь...»
Разумеется, египтянин отлично мог предоставить Иолу и Эпея их собственной участи, раздеться, лечь в постель и до утра забыться крепким, здоровым сном.
Но тогда Менкаура не был бы Менкаурой, надежным, верным другом, честным учеником служивших доброму богу Тоту жрецов, искушенным адептом белой магии.
Писец попросту не был бы собой.
Пожав плечами, буркнув беззлобное ругательство, египтянин поднялся, потянулся, расправляя затекшие от долгой неподвижности мышцы и суставы.
Проворно и уверенно собрал необходимые принадлежности.
Замкнул за собою дверь комнаты и заторопился по коридору в сторону гинекея.
«Натворили безумств, а посоветоваться, прежде нежели очертя голову бросаться в неведомый поток — не пожелали. Хотя... Понять можно: и побаивались, и времени оставалось в обрез».
Он глядел по сторонам таким взором, точно впервые очутился в Кидонском дворце и дивная архитектура, живопись, роскошное убранство залов и покоев были в диковинку.
«Чудная культура! Несравненная цивилизация — неизмеримо краше и человечнее кемтской... Трудолюбивый, по большей части очень добрый и одаренный народ! Во что превратила бы остров эта разбойничья шайка через десять-пятнадцать лет, пустив Кефтиу по миру, сделав ненавистным всякому честному чужеземцу! И все — исключительно ради утоления диких похотей... Как обидно, право слово — как обидно!»
Двое стражей, караулившие доступ в гинекей, подтянулись и встретили Менкауру положенным вопросом:
— Зачем, надолго ли, по чьему повелению?
Менкаура хладнокровно извлек из набедренной повязки-фартука хрустальный шарик — несравненно меньшего размера, нежели оставшийся позади, в наглухо закрытой спальне.
Блестящая, прозрачная сфера имела в поперечнике примерно две аттических пяди.
— Глядите, — сказал египтянин, воздевая зажатый меж указательным и большим перстами шарик, подставляя отблескам светильников, заставляя сверкать и рассылать по сторонам яркие блики. — Глядите внимательно.
Стража хорошо знала царевичева наставника, уважала за мягкость обращения, мудрость и доброжелательность (по крайней мере, внешнюю).
Подвоха не чаял никто.
Воины машинально повиновались.
— Пристально смотрите, — повторил Менкаура. — Теперь хорошо... Теперь очень хорошо. Усните. Немедленно.