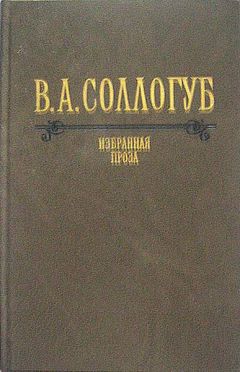Владимир Александрович Соллогуб
Аптекарша[1]
Уездный город С. - один из печальнейших городков России. По обеим сторонам единственной грязной улицы тянутся, смиренно наклонившись, темно-серо-коричневые домики, едва покрытые полусогнившим тесом, домики, довольно сходные с нищими в лохмотьях, жалобно умоляющими прохожих. Две-три церкви — благородная роскошь русского народа — резко отделяются на темном грунте. Старый деревянный гостиный двор — хранилище гвоздей, муки и сала — грустно глядится в огромную непросыхающую лужу. Из двух-трех низеньких домиков выглядывают пьяные рожи канцелярских тружеников. Налево красуется кабак с заветною елкой, за ним острог с брусяным тыном, а вправо, на полуразвалившемся фронтоне, прибита черная доска с надписью:
«Аптека, Apotheke».
В один из тех печальных дней, когда кажется, что небо хмурится на землю, молодой человек сидел у окна одного из этих убогих домиков и сердито курил сигару.
На голове его была надета, по привычке набекрень, щегольская шапочка с кисточкой. Халат его, сшитый в виде длинного сюртука с бархатными отворотами, свидетельствовал о щеголеватости его привычек, а частые струи дыма в то же время ясно доказывали свирепость его душевного расположения.
Внизу на улице, у самого подъезда, стояла коляска без лошадей и почти до оси в грязи: около коляски нехотя суетился камердинер, вынимал поклажу и ворчал что-то сквозь зубы с самой ожесточенной физиономией.
Кругом собралось несколько мальчиков в немом удивлении, а напротив, на полупровалившемся тротуаре, стояла баба с коромыслом на плече и с вытаращенными глазами.
Молодой человек погрузился невольно в самые досадные размышления. «Теперь, — подумал он, — в Павловском вокзале готовится иллюминация. Herrmann играет вальсы, галопады и всякие попурри; гусарские песенники поют, дамы ездят верхом; мои товарищи любезничают, а я сижу в этой трущобе; теперь наполнен французский театр, m-me Allan играет; товарищи мои слушают и хлопают, а я сижу в этом захолустье! А в субботу, в субботу бал на водах; там и О… и В… и Б.; товарищи мои будут с ними танцевать, они будут им улыбаться, будут с ними кокетничать, кокет-ни-чать… с ними будут!.. А я сижу в этой темнице, в этой ссылке, в этом заточении!»
Вдруг необычный шум на улице остановил порывы его негодования. Молодой человек высунулся из окна.
Под окном камердинер его Яков спорил с каким-то господином в пуховой фуражке и в венгерке с снурками и кисточками, что, как известно, явный признак провинциального франта.
— Я тебя спрашиваю, чья коляска? — говорил франт.
— Я вам сказываю, что господская, — сердито отвечал Яков.
— Да чья господская?
— Ну, говорят вам, господская.
— Да чья же?..
— Ну господская. Всё узнаете, скоро состареетесь.
— Что… что?.. Вот я тебя… Да нет, вот… возьми, братец, гривенник, скажи, голубчик, чья коляска?
- Не надо мне вашего гривенника. Любопытны слишком. Ступайте своей дорогой.
— Коляска моя! — закричал молодой человек из окна. — Что вам угодно?
Франт поспешно поднял голову и начал раскланиваться, стоя в грязи:
— Ах! Извините-с. Шел мимо-с. Вижу-с коляску отличной работы-с. Смею спросить: что изволили за нее дать-с?
— Три тысячи пятьсот, — отвечал молодой человек.
— Гм! Деньги хорошие. Смею спросить: с кем имею честь говорить?
— Барон Фиренгейм.
— Ах, помилуйте… Я вашего, должно быть, родственника очень знал-с; вместе в полку были. Позвольте быть знакомым.
И, не ожидая приглашения, франт опрометью бросился к крыльцу, а через мгновение очутился уж в комнате приезжего.
— Позвольте-с спросить: как вам приходится барон Газенкампф, который был у нас ротмистром в полку?
— Моя фамилия не Газенкампф, а Фиренгейм, — отвечал, улыбнувшись, молодой человек.
— Ах! А мне послышалось — Газенкампф. Извините, пожалуйста. Какой у вас хорошенький халат; чато, теперь этакие халаты носят в Петербурге.
— Не знаю, право. Как кто хочет.
— Очень хороший фасон. Я попрошу у вас для выкройки. По делам службы изволили, вероятно, к нам приехать?
— Да-с.
— Я вам должен доложить: я с здешними господами служащими никакого дела не имею и в глаза почти не знаю. Городничий наш, Афанасий Иваныч, — изволите его знать? — добрый человек, только слаб немножко, за купцами ухаживает; впрочем, многого не возьмешь: у нас купечество себе на уме. Сами так исправно воруют, что любо. Вы их еще не изволите знать? Криворожий, Надулин, Ворышев — лихой народ, нечего сказать. Исправник наш добрый человек, да попивает. Судья так себе, зато уж стряпчий молодец, а впрочем, я их знать не знаю. Что это у вас, часики на столе?..
— Часы.
— Ах, позвольте взглянуть. Какая прелесть! Что за цепочка! Нам, провинциалам, этаких вещей и во сне не видать.
— У вас, кажется, тоска нестерпимая в вашем городе?
— Да-с, сказать правду. Хуже быть не может. Вот то ли дело в Т. Сто верст всего отсюда. Дворяне живут в городе, и купечество зажиточное, а здесь просто пустыня; впрочем, в двадцатом году здесь было рекрутское присутствие, так тоже весело жили. Даже, говорят, дворянское собрание было в доме, что нынче аптека. Были балы; помещики съезжались. Очень было весело. Жидовская была музыка. До сих пор вспоминают.
— Как, неужели у вас нет ни одного дома, где бы можно было провести вечер?
— Нет-с, с двадцатого года здесь никто из дворян не живет… Да, бишь, предводитель наезжает иногда.
— Женатый человек? — спросил поспешно барон.
— Нет-с, холостой. Это туалетный прибор у вас на столе?
— Да-с.
— Серебряный или аплике?
— Серебряный.
— Ах, позвольте взглянуть. Как хорошо! Какая работа! Дорого изволили дать?
— Не помню, право.
— Отличная вещица! Я еще такой не видывал. А эти пилочки на что?
— Для ногтей.
— Уж чего теперь не выдумают! Надо сказать правду.
— Да что же вы здесь делаете? — спросил с отчаянием молодой человек.
Господин в венгерке взглянул на него с удивлением.
— Да ничего-с.
— Как же вы здесь живете?
— Да я у помещиков гощу большею частью. Свою деревеньку я продал, так живу себе поневоле иногда в городе, а то в гостях всегда.
— И вы ни с кем здесь не знакомы?
— С служащими я не веду особенного знакомства, а так иногда захожу к Францу Иванычу.
— А кто это Франц Иваныч?
— Франц Иваныч?..
— Да!..
— Наш аптекарь.
— Ученый человек?
— А бог его знает. Человек добрый. Жена у него немочка прехорошенькая, хотя бы в столицу; и там скажут, что недурна.
— Хорошенькая!..
— Очень недурна-с. Только жаль, что по-русски плохо говорит: понимает-то понимает, а уж разговаривать — слуга покорный.
Лицо молодого барона прояснилось. Мысль о хорошенькой женщине так могуча в юные годы! Весь город показался ему не так отвратителен. Изломанные крыши сделались живописными. По грязной улице очертились протоптанные тропинки. Барон вздохнул свободнее. В эту минуту парные дрожки остановились у подъезда.
— Городничий, — сказал с некоторым смущением франт в венгерке. — Извините, что я вас побеспокоил. Позвольте быть знакомым.
Засим, поклонившись почтительно барону и еще почтительнее входящему городничему, любопытный провинциал вышел на улицу, осмотрел со всех сторон коляску, заглянул под фартук и отправился домой, сопровождаемый глухою бранью камердинера Якова.
Выпроводив городничего, квартировавшего некогда с полком в Белоруссии и почитавшего непреложною обязанностью с того времени превозносить полек, к явной обиде наших православных дам, молодой барон кликнул Якова и начал одеваться.
Полчаса тому назад он бы и не взглянул на подаваемое ему платье, но теперь он назначил и сюртук, и жилет, и галстух и вынул из дорожного ящика большую жемчужину в золотой лапе, которой лапой он заколол пестрый шарф, обвивающий его шею. Одевшись таким образом, он вышел прогуляться, подышать свежим воздухом и неприметно отправился прямехонько к аптеке.
Сперва он внимательно осмотрел странную архитектуру дома, где некогда уездное дворянство выплясывало под жидовскую музыку; потом раз пять прочитал надпись: «Аптека, Apotheke», потом обошел раза два дом со всех сторон, потом пошел далее. У него недоставало храбрости войти в аптеку без причины, и в эту минуту он дорого бы заплатил за какой-нибудь незначительный недуг, принудивший его к требованию врачебных пособий.
У светских людей, несмотря на их наружную неустрашимость, часто бывают минуты подобной нерешительности, в которых они, впрочем, душевно раскаиваются и никогда никому не сознаются. Через полчаса молодой барон, как бы влекомый неодолимым магнитом, опять подошел к аптеке, посмотрел в окна, остановился, хотел завернуть на крыльцо и опять прошел далее. Сердце его билось. Наконец ему стало стыдно самого себя. Как возмутившийся трус, он вдруг повернул назад и натолкнулся на нового своего знакомца-франта, который выходил из аптеки.