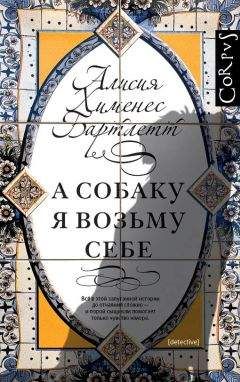— Да… Вам письмо от Зины Липенко… Я из Москвы.
— Ах, вот как? От Зины? Пожалуйста, войдите.
Она запирает дверь, накладывает цепочку. Ее манеры меняются мгновенно. Она идет в следующую комнату, откуда в переднюю падает широкая полоса света, и делает грациозный жест рукой.
— Пожалуйста, разденьтесь.
Это среднего роста стройная женщина, лет тридцати пяти. Она одета строго, вся в черном. Ее светлые волосы лежат в бандо вдоль щек, худых и отцветающих. Глаза ее светлые и холодные. У нее умный лоб, смелые брови, темные волосы, и тонкая улыбка.
Через маленькую столовую она ведет их в свой кабинет. Это большая и мрачная комната, совсем лишенная женственных украшений и кокетливых мелочей. Все темно, строго, солидно. Кабинет мужчины. Лампа под зеленым абажуром озаряет рабочий стол, заваленный книгами и рукописями. Переплеты тускло поблескивают позолоченными корешками за стеклом шкафа. На стене портреты Элизе Реклю и Кропоткина. В глубине комнаты рояль.
«Она любит музыку. Может быть, сама играет и поет», — думает Маня.
— Прошу садиться, — ласково говорит Глинская, придвигая себе кожаное кресло. — Я сейчас пробегу письмо.
Девушки озираются с любопытством и смущением. Они обе бессознательно робеют перед этой женщиной. Разве не сумела она устроить свою жизнь по-новому? Не отвергла ли она торные дороги? Не идет ли она, одинокая и гордая, по пути, подсказанному ей убеждением, чувством, призванием? Ее обстановка буржуазна. «Но ведь это все нажито ее собственными трудами, — думает Соня. — Каждый стул, каждая чашка в этой квартире куплены на ее трудовые деньги. И если она любит комфорт, кто смеет упрекнуть ее в этом? Разве каждый рабочий не стремится украсить свою жизнь радостями мещанина? Ведь это только удовлетворение самых законных эстетических потребностей?»
— Вы надолго сюда? — приветливо спрашивает Глинская, складывая письмо.
— Увы! У меня только одна неделя. А Париж необъятен…
Нина Глинская смеется и становится более ственной.
— В самом деле, здесь можно растеряться. Не могу ли я помочь вам? Что вы хотели бы видеть?
Соня открывает рот. Беспомощно разводит руками.
— Все! — срывается у нее.
Маня не может удержать смеха. Глинская тоже звонко хохочет и кажется теперь моложе лет на десять.
— Однако из всего надо выбрать только немногое. Вот сейчас с одного слова вы раскроетесь передо мною. Что вас больше интересует за границей? Люди? Или вещи? Под этим я понимаю: соборы, музеи, памятники.
— Конечно, люди! — вскрикивает Соня. «А меня, конечно, вещи», — думает Маня.
— Ну вот и договорились! В Сорбонне были?
— Завтра идем и туда, и сюда.
— А завтра вечером общее собрание феминистской Лиги «Les droits des femmes» [13]… Хотите со мною?
— Еще бы! Как я рада!
— А разве это не скучно? — спрашивает Маня, поднимая левую бровь.
— Как для кого, — отвечает Глинская, тонко улыбаясь. — Я нахожу эту лигу крайне интересной с тех пор, как в нее, вопреки желанию учредителей и председательницы, влилась новая волна: женщин-работниц.
— Значит, это не буржуазная лига, как у нас, в России? — спрашивает Соня, вся подаваясь вперед.
Глинская берет со стола красивый разрезной ножик черного дерева и играет им. Она откинулась в глубь кресла. Маня с удовольствием видит небольшую изящно обутую ногу.
«Эта женщина хочет нравиться», — думает она.
— И здесь лига долго была буржуазной, все первые десять лет. И сейчас председательница — аристократка. И секретарь — дама из высшего общества. Между прочим, образованная и талантливая женщина. И товарищ председателя — ученая буржуазна. Да и самое ядро, конечно, все из буржуазии. Ее привлекали, имея в виду осуществить филантропические затеи, ясли, приюты для детей и для старух, образцовую прачечную. Но, в силу вещей, рабочий элемент, которому эта лига пошла навстречу своей петицией в палату депутатов о сокращении трудового дня для женщин…
— Ах, вот как! Даже в палату?
— А как бы вы думали? Председательницу не любят. Но ей нельзя отказать в энергии. И у нее связи. Теперь с лигой считаются. На ее заседаниях присутствуют представители прессы, от города, от министерства. Вот увидите сами.
— Как это интересно! Но вы что-то говорили о рабочих?
— Да. Я говорю, что работницы теперь сами заинтересовались этой лигой. Они вступают в ее члены. Образовали сейчас стойкую и сплоченную оппозиционную группу. Они отлично знают, чего они хотят и куда им идти. Правлению трудно бороться с новым течением. Эти женщины не желают над собой опеки господ. Вы послушали бы, как они говорят!.. Возможно, что председательница покинет свой пост под давлением этой враждебности. Завтра это выяснится.
— Так что лига, в сущности, демократическая? — вскрикивает Соня.
— Н-не скажу сейчас. Но к этому идет несомненно.
Заседание Лиги уже началось, когда Соня и Маня вошли смущенные, запыхавшиеся. Они совсем заблудились в этом огромном Париже. И даже план, с которым все время справляется Соня, не помог. Они не знали номера трамвая. Они не подозревали, что это так далеко от них и в такой глуши.
Они садятся на свободные места. На них ыикают и оглядываются. Из третьего ряда им кто-то кивает. Элегантная дама в черном, в шляпе с огромными полями и пером. Кто же это?
— Да это Глинская, — первая узнает Маня. — Какая интересная! Совсем другой человек.
На эстраде три женщины. Председательница, важная седая дама в шляпке, читает что-то тягучим и недовольным голосом. В черепаховый лорнет на длинной ручке она глядит в рукопись. Слева — угрюмая и плохо одетая брюнетка… «Совсем как у нас, в Обществе — шепчет Соня. — И на француженку непохожа»… Справа — очаровательная женщина, вся в белом, в белой весенней шляпе с фиалками. Это секретарь. Сняв длинные до локтя перчатки, она что-то пишет и скользит изредка умными, насмешливыми глазами по лицам публики.
Маня оглядывает всех по привычке и с бессознательной жадностью художника. Как и всюду, мало красивых и значительных лиц! Впрочем, вот одна. Брюнетка с теплой шалью на плечах. Она причесана по моде, но без шляпки. Должно быть, работница. Их тут много, но все бесцветны.
Перед ними сидит старушка, вся седая, сгорбленная, опираясь обеими руками на палку. Маня видит огромный изумруд на ее мизинце. На бархатной шляпке старушки веет страусовое перо. Шелковая накидка с настоящими кружевами накинута на сутулые плечи. Это тоже дама «большого света». У нее заметные седые усы. Черты резки, губы запали. Но вот она обернулась на кого-то, кто шепчется позади, и глянула строго и ярко. Какие блестящие глаза! Маня вынимает из пальто записную книжку, с которой не расстается, и тихонько зарисовывает оба профиля: аристократки и работницы, потом прелестное лицо секретаря на эстраде и живописную голову Глинской. Мужчин немного. Вон те, направо, что строчат торопливо за маленьким столиком, наверно репортеры. А в первом ряду — представитель министерства или города. У него какой-то орден в петлице. Но лицо банальное. Типичный француз. Отчет кончен.
— Кто желает возразить? — спрашивает председательница.
— Прошу слова, — низким мужским голосом говорит брюнетка с шалью на плечах и встает. Все оглядываются.
Глинская быстро поднимается, пользуясь перерывом, и, раскланиваясь, пробирается назад, к тому ряду, где сидят Соня и Маня. Перед ними как раз пустой стул. Глинская садится.
— Слушайте внимательно, — шепчет им Глинская. — Это Дениза. Она анархистка.
— Тсс… — проносится по зале. Старушка сверкает на них глазами. Маня умиляется.
Среди внезапно наступившей тишины низкий голос работницы звучит отчетливо и слышен без малейшего напряжения во всех углах. Речь ее, сначала сдержанная, полная иронии, постепенно разгорается Она обвиняет правление в бездеятельности, в отсутствии инициативы, в нежелании идти навстречу нуждам рабочего класса. Что сделали для них за эти три года «эти дамы, жаждущие популярности»? Их настойчиво просили устроить ясли в одиннадцатом округе, заселенном фабричными работницами.
— Но мы дали вам ясли в девятом, — перебивает председательница, возвышая голос.
— Это слишком далеко. Мы не можем бежать туда на рассвете с нашими детьми. Мы не можем опоздать к гудку.
— Но у нас нет денег!
Ропот покрывает это заявление. Враждебные восклицания, страстные жесты.
— Тсс… Тсс…
Председательница звонит.
Работница упрекает правление в игнорировании жизни, которая меняет свои формы и неуклонно идет вперед. Женщины-работницы осознали свои права. Они проснулись Они требуют своей доли, своего места. Если они вошли в лигу как равноправные члены, делая взносы из своих трудовых грошей, то не для того, конечно, чтобы любоваться на страусовые перья дам и умиляться унижающей их благотворительностью. Довольно того, что их эксплуатируют на фабриках! Они не отказываются от работы. Они высоко несут голову в сознании, что трудятся наравне с мужчинами. Они не согласились бы быть паразитами, если бы вдруг лицо общества изменилось. Но для своих детей они требуют, не просят, а требуют безопасности.