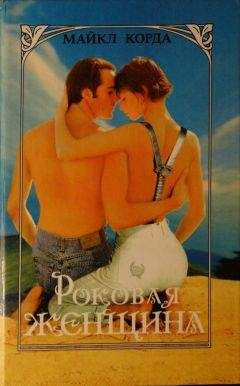Таковы были в те времена и взгляды ее отца — как многие богатые американцы, Артур Баннермэн счастлив был принимать у себя в доме лихого кубинского героя и выписать чек на la causa[49].
Последующий откат Рамиреса в мир политических преступлений и убийств по контракту ускользнул от внимания Сесилии. При тех редких случаях, когда упоминалось его имя, она все еще творила о нем как о латиноамериканском антикоммунистическом сэре Галахаде[50] — репутация, которую он потерял так же быстро, как и приобрел.
— Он тоже провалился. Мы обменялись самыми резкими словами.
— Подкинь под него хворосту, Роберт! Отец часто говорил, что если бы у братьев Кеннеди не сдали нервы, Рамирес смог бы войти в Гавану и заставить Кастро собирать чемоданы.
— Сеси, отец изменил свое мнение, когда ты еще каталась на пони. Бог свидетель, я сделал все, что мог. Я даже привез Рамиреса сюда, поместил его в местной гостинице, но он ничего не добился.
— Он здесь?
— Забудь, что я тебе сказал. Чем меньше ты знаешь об этом, тем лучше. Все под контролем.
— Что ж, тогда вели ему пошевеливаться, — резко сказала Сесилия.
Роберт жалел, что вообще согласился обсуждать дела с Сесилией. Он должен был знать ее лучше, чем предполагать, что она когда-либо даст ему благословение на компромисс с Алексой.
— Сделаю все, что в моих силах, — мрачно произнес он, чтобы положить конец беседе.
Сесилия взяла его за руку.
— Никто не может просить большего, — прошептала она.
Репутация Сесилии как слабой женщины была догматом, принятым на веру всей семьей, за исключением самой Сесилии, которая знала правду. Она считала, что в ином веке сумела бы справиться с ролью матери, или сестры, или жены древнего римлянина — во всяком случае, одной из тех суровых, непорочных героинь, что указывают путь долга мужчинам своей семьи.
С ее точки зрения, никем не разделяемой — Роберт был слишком мягок, себе во вред. Она обвиняла себя, за то что бежала в Африку, чтобы спастись от семьи и богатства, оставив его одного перед лицом враждебного мира. Если бы она осталась дома, то убедила бы его не пытаться отобрать Трест у отца — или, если бы он все же сделал это, поддерживала и укрепляла его дух, так, чтоб он преуспел. Теперь она убеждала себя, что Роберт дал слабину из-за того, что эта девица воспользовалась его душевной добротой, что Рамирес, возможно, просто уклоняется от того, что он обязан был сделать.
Она думала об этом, пока раздевалась и проскальзывала в хлопковую ночную рубашку, вновь наслаждаясь чувством прохлады после всех этих лет в Африке. Однако это был ее долг, точнее, предназначение — быть там, помогать бедным, а Баннермэны всегда исполняют свой долг не жалуясь. Если ничего другого не остается — так учила ее бабушка. И это было главным удовлетворением ее жизни — возможно, подумала она без горечи, и единственным.
Если Роберт не может приказать Рамиресу сделать то, что он обязан сделать, она возьмет это на себя. Это тоже ее долг. Она потянулась к телефону и набрала номер.
Компания, собравшаяся к завтраку, не излучала счастье, но Роберт, для которого сама идея охоты была на первом месте, делал все возможное, чтобы оживить картину, подобно преданной жене, которая чувствует, что важный домашний прием плохо начался, и видит, как шансы ее мужа на продвижение по службе исчезают по мере того, как беседа спотыкается и замирает. Не привыкший обычно рано вставать, Роберт двигался по столовой, сыпал шуточками, с энтузиазмом пожимал руки и сообщал каждому, какой будет прекрасный день. И действительно, день обещал быть великолепным, по крайней мере в том, что касалось погоды. Природа приложила все усилия, чтобы соответствовать представлениям о ней Баннермэнов. Прелестный, бледный осенний туман развеивался, открывая тонкий ледок, который таял в первых лучах солнца, из-за чего опавшие листья выглядели так, будто они были окрашены за ночь, специально для этого случая. На дальнем конце Большой Лужайки мирно паслись полдесятка ланей. Их шкуры в рассветных лучах, казалось, сбрызнуты оранжевым.
— Единственный смысл во всем этом — завтрак, — простонал Патнэм, усаживаясь рядом с Алексой.
Действительно, на буфете, в дальнем конце столовой выстроился ряд надраенных серебряных блюд, как в ресторане роскошного пассажирского парохода. День охоты в семье Баннермэнов протекал по образцу, твердо заданному еще в прошлом столетии. Небольшая армия невидимых слуг вставала задолго до рассвета, готовя обильный завтрак, собирая корзины для пикника, укладывая ружья и амуницию в автомобили, выводя собак. Слуги даже принесли фазанов в клетках с дальнего конца поместья, где их выращивали, просто на случай, если число птиц, которых можно поднять в поле, будет недостаточным. Ни одна мелочь не была упущена.
— Вы не едите? — спросил Патнэм.
Алекса глянула в тарелку и содрогнулась при виде яиц, ветчины, сосисок и оладий.
— Это напоминает мне детство, — сказала она. — Только тогда завтрак подавался в три часа утра, а не в шесть.
— Я и забыл, что вы — продукт сельскохозяйственной полосы, — заявил Патнэм. Его жизнерадостность действовала ей на нервы. — А ведь, если вдуматься, вещей, которых я не знаю о вас, гораздо больше, чем знаю — за исключением того, что читал в газетах, а, будучи журналистом, я понимаю, что верить им нельзя.
Алекса с трудом пыталась проявить внимание.
— Но вы, однако, больше не работаете журналистом? — спросила она.
— Откуда вы знаете?
— Ваш отец сказал.
— А! Все время забываю. Увы, нет.
— Почему?
— Мне ничего не хочется снимать. Я делал репортажи о войне. А после того, как вы повидаете войну — настоящую войну — все прочее кажется скучным, бессмысленным, блеклым. Президентские кампании? Черт с ними со всеми. — Он накинулся на завтрак, словно полный желудок мог его подбодрить.
Алекса потягивала кофе, пока Патнэм полировал тарелку последней оладьей, с несколько угрюмым видом человека, который с нетерпением ждал сытного завтрака, а теперь, когда его съел, проведет весь день, кляня себя за излишние калории и холестерин.
— Зачем мы здесь собрались? — спросила она.
— Зачем? Я задаю себе тот же вопрос. Наверное, потому что Роберт этого от нас захотел. Как обычно.
— И для вас этого достаточно? Вам хватает этой причины?
— Как правило. Может быть, до сих пор. Послушайте, он мой брат, что бы вы о нем ни думали. Если ему хочется разыгрывать сельского сквайра — в основном, подозреваю, чтобы произвести впечатление на вас — при том, что он дома впервые за последние четыре или пять лет, прекрасно, пусть его. Кто я такой, чтобы портить ему удовольствие?
— Вы считаете, что он затеял все это из-за меня?
— Не совсем, но — да. Ему нравится ставить все вверх дном, а в Кайаве для этого мало возможностей. Роберт не умеет сидеть сложа руки, поэтому перспектива провести весь день, разговаривая с вами о делах — это больше, чем он может выдержать. Он любит организовывать людей, что-то затевать, чтобы все были постоянно заняты. Он стал бы чертовски хорошим полководцем, если бы мог скакнуть из рядовых прямо в генералы. Я хочу сказать — посмотрите на него! Он в своей стихии. Слуги были на ногах всю ночь, перевернули половину имения, чтобы было достаточно птиц. Он даже пригласил некоторых местных землевладельцев, людей, которых он в действительности презирает. Это демонстрация, что Кайава все еще принадлежит ему, а не вам, вот и все.
— Я никогда и не считала ее своей.
— Но, если верить завещанию отца, она ваша. И на здоровье, если б это зависело от меня. Господи, а вот и де Витт, прямо как на рекламе «Дакс Анлимитед».
Столовая теперь была переполнена. Появилась Сесилия, в твидовой юбке и нескольких свитерах, с чрезвычайно сердитым видом. Де Витт и впрямь выглядел как иллюстрация к каталогу дорогой спортивной одежды — в камуфляжных брюках, тяжелых ботинках, куртке цвета хаки, изукрашенной замшевыми кармашками, патронташами, ремешками, кожаными шнурками, чтобы привешивать добычу, и подбитой не плечах кожаными же подушечками для смягчения отдачи. На шее, на цепочке у него висели запасные очки, а на голове была зеленая тирольская шляпа.
Алекса отметила, что здесь на охоту не надевали вельветовые брюки и пуховики, не следовали также и принятому на Среднем Западе обычаю надевать на охоту красное. Роберт, погруженный в беседу с де Виттом, был в прекрасно сшитом твидовом костюме, так же, как и его соседи, большинство из которых взирали на хозяев с благоговейным страхом, когда не косились украдкой на Алексу. Даже Букер был в твидовом костюме, хотя, каким-то непостижимым образом, ткань и покрой его костюма казались дурно выбранными, а может, его одежда была просто слишком новой. Алекса гадала, во что будет одет Саймон. Он, вероятно, проспал.