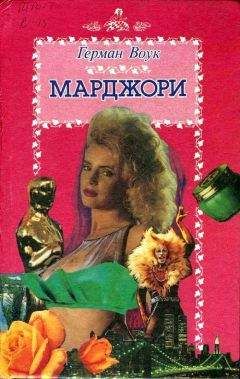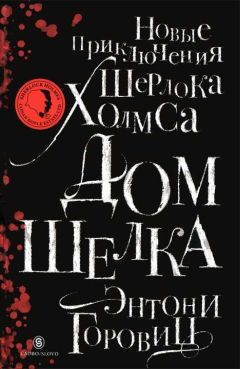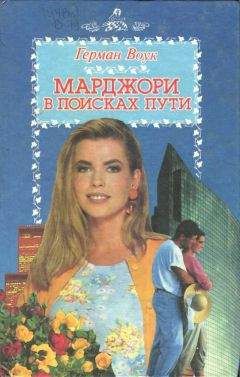— Маша, мисс Кимбл распределяла роли, и…
— Дора Кимбл, моя дорогая, только директор, а Хелен Йохансен — менеджер спектакля и, что еще важнее, будет писать отчет о представлении в газету. Если мисс Кимбл хочет, чтобы и на будущий год ставились спектакли, она не должна делать ничего, что может обидеть Хелен. Драматический кружок — единственное, что привязывает мисс Кимбл к жизни. Он ей замещает мужчин. Поэтому она чертовски слаженно дует с Хелен в одну дуду.
Узнав, каким образом политические интриги могут влиять на такое священное действо, как распределение ролей, Марджори была поражена.
— Так вот как я получила роль, это все правда? Прямо не верится…
— Послушай, дорогая моя, в этой школе Хелен может делать все, что захочет. — Маша начала рассказывать о политике Хантера, приводя Марджори в изумление своими откровениями о внутренних соглашениях между христианскими и иудейскими женскими общинами и о жестком распределении лакомых кусочков в виде славы и денег.
— Но это же нечестно, прямо целая государственная система подкупов! — воскликнула Марджори.
— Ну, что ты, ей-богу, Марджори! Так обстоит дело везде, во всем мире. И школа не исключение. Девушки, выполняющие всю работу, заслуживают небольшой добавки.
— Откуда ты все это знаешь? Я чувствую себя просто слепой дурой!
— Ты не интересуешься всем этим в отличие от меня. Я честолюбива. Сначала я пыталась противиться этой системе. Выдвигалась в президенты, хотела организовать чернь, девушек, не входящих в кланы. Бог свидетель, мы их превосходили численностью раза в четыре. Но есть одна проблема. Выяснилось, что у черни развит культ благородных. На один голос за меня приходилось шесть за Хелен. А, ладно! — Она протолкнула в рот креветку и запила. — У тебя, черт возьми, глаза вылезут от изумления! Сколько тебе лет?
— Мне будет восемнадцать в этом месяце.
— Милосердный Боже, спаси и сохрани! Совсем дитя — и уже заканчивает второй курс! Да я с трудом переползаю из семестра в семестр. В Бронксе нетрудно было перепрыгнуть через один класс, я выиграла год, вот и все…
— Ты из Бронкса?!
— Прожила там всю жизнь, не считая последних полутора лет. А что?
Маша искоса взглянула не нее, красные отблески очертили темные тени вокруг глаз.
— Видишь ли, дорогая, ты можешь играть. Я бы… поклялась, что ты уроженка района Центрального парка.
— А сколько тебе, Маша?
— Ох, дорогая, я старая карга. Древняя, потрепанная жизнью, измочаленная старуха двадцати одного года.
Марджори засмеялась. Выпивка давала о себе знать. Она находила Машу все более и более очаровательной, а все это китайское окружение перестало ее пугать.
— Маша, ты мне скажешь одну вещь, только абсолютно честно? Для меня это ужасно важно. Почему ты считаешь, что у меня есть способности, чтобы стать актрисой? Только потому, что пару раз увидела меня на репетициях…
Маша ухмыльнулась.
— Давай пообедай со мной все-таки. Позвони своим и скажи, что занята из-за спектакля. И это будет правдой, мне нужно объяснить тебе тысячу вещей об этом представлении.
— А ты… ты мне можешь заказать что-нибудь, но без свинины? Я ее не ем.
Улыбнувшись, Маша ответила:
— Тут можно устроить целый банкет — и без свинины. Проще простого.
Миссис Моргенштерн по телефону спросила только, когда Марджори вернется, и предупредила, чтобы она не переутомлялась. Вернувшись к столу, она увидела Ми Фонга, который улыбался, наклонив голову. Маша заказывала:
— И, конечно, жасминовый чай… и рисовое печенье, и — ах, да, запомни, без свинины. Никакой свинины!
— Не сивинина, да. — Китаец хихикал, глядя на Марджори. — Сивинина сильно много деньги, да? Не сивинина, да! — И он вышел, лучезарно улыбаясь.
— Мама сказала, что все в порядке, — объявила Марджори и добавила, кидая полный раскаяния взгляд вслед китайцу, — но она не знает, что я в китайской закусочной.
— Ты ешь только еврейскую еду, да? — мягко спросила Маша.
— Да нет. Родители — только. Но свинина…
— Не оправдывайся, дорогая. Влияние обстоятельств баснословно. К счастью, у меня не было таких проблем.
— Ты не еврейка?
— Как ни странно, я не знаю наверняка. Отец у меня истовый атеист. А мать не знает, кто она такая, она выросла в сиротском приюте во Франции. Полагаю, что Гитлер посчитал бы меня еврейкой, это верно. Но Зеленко, если это тебе неизвестно, фамилия одного из благороднейших семейств России. Как мы появились тут, отец не знает или не хочет говорить. Возможно, какой-нибудь мой прапрадед был незаконнорожденным сыном дворянина. Из того, что я о себе знаю, я сделала вывод, что я русская княжна, ну, как тебе эта трезвая мысль?
— Маша, неужели у вас дома действительно бывает Гертруда Лоуренс? — спросила Марджори. Она слышала, как Маша на репетиции мимоходом выдала это потрясающее известие.
— Дорогая, Гертруда Лоуренс долгие годы дружит с моей матерью. Маму, в общем, все любят. Не думаю, что есть хоть один человек в театре, ей неизвестный. Я, черт побери, таких не встречала. Я отнюдь не претендую на то, что они все у меня в друзьях, нет, это все только благодаря маме.
Маша продолжала сыпать анекдоты о жизни знаменитых людей, чьи имена звучали для Марджори волшебной музыкой. Маша знала, что вытворял на вечеринках Ноэль Коуард и где одевалась Маргарет Салливан, у кого из известных актеров любовный роман и с кем, кто из признанных писателей и композиторов гомосексуалист, какие пьесы станут сенсацией следующего сезона и каких режиссеров разгромят в пух и прах.
Она трещала в том же духе, а Марджори, затаив дыхание, слушала ее, как загипнотизированная, когда Ми Фонг внес наконец первое блюдо.
Насколько Марджори смогла разглядеть в малиновом полумраке, это был белый суп — вернее, грязно-белый. У нее было врожденное отвращение к белым супам. В нем плавали разные штуки, некоторые выглядели желеобразными, некоторые как будто были накрошенными овощами, а некоторые казались обрезками мяса. Она взглянула на Ми Фонга, тот расплылся в улыбке:
— Нет сивинина, мисса.
— Давай, приступай, это пища богов, — поспешно опуская маленькую китайскую ложку в суп, сказала Маша.
Марджори съела пару ложек, пытаясь определить происхождение этого супа. Вкус у него был тонкий, совсем даже не плохой. Но когда она разжевала то, что выглядело как кусочки резины (а может быть, черви?) — она выплюнула остатки и оттолкнула от себя тарелку. Ей стало потом стыдно, она испугалась, что обидела Машу; но та ложка за ложкой поглощала суп, одновременно продолжая болтать о театре, и ничего не заметила. Марджори напоминала ей Маргарет Салливан.
— Конечно, не техникой игры, нет, — пояснила она, — невозможно представить себе более сырую и неуклюжую игру, чем твоя. У тебя ведь нет ни на вот столечко опыта, и это становится очевидно, когда ты на сцене. Когда я сказала о сходстве, я имела в виду актерскую сущность, какой-то внутренний магнетизм. Ты, Марджори, двигаешься, даже когда играешь эту затасканную роль Микадо, и чувствуется, что ты живая, ты вся она — и тем не менее привносишь свой собственный, особенный оттенок. Вот это оно, дитя мое, поверь мне. А все остальное не столь важно — его можно объяснить, ему можно научиться, в конце концов, купить. Но это — либо есть, либо нет от природы. Тебе дано.
— Господи, как я надеюсь, что ты права… — Марджори запнулась, потому что перед самым ее носом вдруг оказалась гора дымящейся пищи: огромное количество белого риса, а на нем — кусочки не то овощей, не то мяса, или и того, и другого.
— Нет сивинина, мисса, — повторил свое китаец. — Ассолютно. — Марджори, однако, не раз слышала запах свинины в закусочных и ресторанах. Это была свинина. Если на земле существует такое животное, как свинья, то это были как раз ее останки.
— Тебе понравится, — сказала Маша. — Это его шедевр — «моо джек» с миндалем. Марджори кивнула и улыбнулась в ответ, лихорадочно выискивая предлог отказаться от блюда. — Его почти везде готовят со свининой, — продолжала Маша, — но Ми Фонг готовит только с бараниной. — И она стала жадно уплетать все с тарелки.
— Люссий бараска, — опять улыбался Ми Фонг, сверкая на Марджори красноватыми в свете фонаря зубами. — Тосьно бараска.
— Разве баранина бывает такой белой? — спросила Марджори, вглядываясь в блюдо и принюхиваясь.
— Белий. Китаський. Китаський бараска все время белий. — Он налил в тончайшие чашки чай с запахом подогретых духов и, хихикая, вышел.
Не желая оскорблять Машу как бы обвинением во лжи, Марджори изобразила удовольствие, которое она получает от еды, что бы это ни было. Она выковыривала из-под мяса рис и ела. Но для такой тонкой работы было слишком темно, и внезапно она обнаружила, что жует кусок очень жесткого мяса. Она закашлялась, приложила платок к губам и выплюнула туда мясо. А потом уже только ковырялась в тарелке, но больше ничего не брала в рот. Частично для того, чтобы отвлечь Машу от своих действий в тарелке, а частично под воздействием сингапурского слинга и Машиной лести Марджори раскрыла ей — единственной в мире — сценическое имя, которое она для себя придумала. Маша перестала жевать и на несколько секунд замерла, глядя на Марджори.