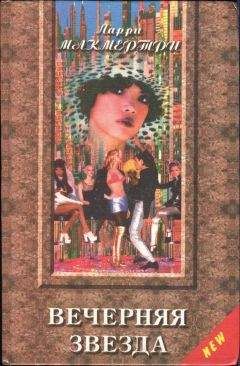Потом, примерно в то время, когда он впервые начал свои голодовки и когда ему пришлось на себе испытать смехотворную процедуру принудительного кормления, он напрочь отказался от чтения. Его папаша годами заставлял Томми читать какую-нибудь одну книгу, например «Ностромо». Казалось, папочка полагал, что жизнь переменится и будет просто прекрасной, если только Томми возьмет и прочтет «Ностромо», поэтому однажды в воскресенье Томми взял да и прочел эту книгу. После этого он взял резак для бумаги, изрезал книгу на миллион клочков и отправил своему папуле в коробке из-под ботинок. Без всякой записки. Это был просто мелко нарезанный Конрад. После этого папочка о чтении больше никогда ничего ему не говорил, да, в сущности, папочка вообще больше ничего существенного не говорил Томми — не ему же он стал бы говорить что-то важное! Он и так чуть с ума не сошел из-за того, что книгу классика превратили в кучку конфетти. А было это примерно тогда, когда Томми во второй раз прошел через мороку принудительного кормления, после чего с голодовками решил завязать. Общество не хотело позволить ему самому контролировать даже собственный пищеварительный процесс.
После того как Том застрелил Джулию и его отправили в тюрьму, он отказывался читать какие-либо книги, за исключением тех, что были написаны людьми, уже побывавшими в тюрьме. Но даже ограничившись только такими книгами, у него был весьма обширный круг чтения. Джейн с Тедди составили ему список и достали для него книги. Том знал, что они втайне мечтали, чтобы он напряг свои мозги и написал бы что-нибудь столь же хорошее, что и Достоевский, Сервантес, Дефо, Жене, но в планы Томми это не входило. Он хотел всего-навсего передать на бумаге то, во что сам верил: свои мысли об убийстве и мятеже против общества; и в его планы не входило даже объяснять Тедди и Джейн, в чем был смысл создания шифра. Он догадывался, что истинный бунтарь должен действовать в одиночку, потому что, как только ты начинаешь делиться с кем-то своими планами и вербовать себе сторонников, ты снова создаешь вокруг себя какое-то общество. Он хотел держать планы бунта у себя в голове, поскольку ничему, кроме собственной головы, доверять было нельзя. В конце концов, даже его кишечник заставили работать в соответствии с тем, чего хотело от него общество. Там, в больнице, они превратили пищу в какую-то кашицу, которую потом пропихнули через него.
Он понемногу работал над своим шифром каждую ночь, получая от этого огромное удовольствие. Это был его собственный труд, и ни одна живая душа не знала, что все это значит. Тюремные психиатры не могли даже предположить, что ему была нужна работа, которой с немыслимой самодисциплиной занимался он, и занимался каждую ночь.
Конечно, был еще его сосед по камере, Джои, мексиканский парень, который в приступе ярости убил своего брата и его лучшего друга. Иногда он просыпался, но увидев, как Томми что-то царапает в блокноте, не задавал никаких вопросов. Он вообще не интересовался ничем, кроме секса и машин. Он спросил его о блокноте всего один раз. Джои едва исполнилось двадцать, и обычно он подолгу не мог проснуться, успевал при этом помастурбировать, после чего снова уплывал в глубокий сон под звуки мексиканского рока в наушниках, которые он не снимал ни днем ни ночью. Томми не понимал, почему Джои нужно так часто мастурбировать. У Джои в их тюремном секторе была кличка — Пицца, а заслужил ее он из-за своей неслыханной доступности. Это был малыш с панели, поиметь его можно было за что угодно — тут годились и кассета, и баллон лака для волос, а взять его мог каждый, кому этого только захотелось бы, даже запаршивевшие старые убийцы или те, кто по двадцать-тридцать лет сидели за изнасилование малолетних, люди, которые совершили все, что только можно было совершить, перепробовавшие все известные наркотики и, вероятно, чем только не переболевшие, с застаревшими или недавно приобретенными болезнями.
Джои нравился Томми. Во многих отношениях это был просто идеальный напарник. Он даже раз-другой пробовал предостеречь его, рассказывая о том, как опасен СПИД и другие болезни, но Джои не обращал на это никакого внимания. Он просто продолжал подставлять свою задницу любому. Он любил слушать музыку и подставлять задницу. Но иногда по ночам он плакал, как ребенок. Это он скучал по матери. Джои получил всего пятнадцать лет и, вполне вероятно, просидел бы не больше четырех-пяти. Тюрьмы и так были переполнены, и вряд ли его, молодого мексиканца, стали бы держать за то, что он уничтожил своих же мексиканцев, которые, в свою очередь, могли пополнить собой армию обитателей тюрем. В сущности, тюремные охранники очень хорошо обращались с Джои — для них это был человек, который сэкономил деньги и койки, так что целых две можно было считать свободными, потому что он убил своего брата и его друга.
Томми знал еще и то, что и с охранниками у Джои были чудные сексуальные отношения — им он отдавался так же часто, как и заключенным. В сущности, Джои прокладывал своей задницей дорогу на свободу. В отличие от него Томми воздерживался от всего связанного с сексом с того самого дня, как выбросил Джулию из своей жизни. Джои считал, что Томми, наверное, болел или что-нибудь в этом роде. Его иногда даже беспокоило, что Томми никогда не проявлял ни малейшего сексуального интереса к нему. Однако ему хватало ума оставить Томми в покое. Томми был не из тех, кто позволил бы собой командовать, в камере ты с ним или еще где-нибудь. Он немного походил на пришельца из космоса, какое-то неземное существо. У него в глазах светилось что-то такое, что можно видеть только у привидений. Джои нечего было беспокоиться, что Томми им не интересуется, — куча народу в тюрьме относилась к нему совершенно по-другому.
Их камера находилась в четвертом ярусе. Когда Томми работал, он смотрел сквозь дверь на большое пустое пространство в центре здания. Кто-то из охранников назвал как-то эту тюрьму Хантвилльским отелем «Хайатт». Сидеть в четвертом ярусе перед такой пустотой было похоже на то, как если бы ты сидел в одном из отелей «Хайатт», которые славятся своими огромными вестибюлями.
По ночам Томми сидел, глядя в пустоту, и тогда к нему приходило умиротворение. Он вполне мог когда-нибудь прыгнуть в эту пустоту, и тогда — всему конец. Конечно, ему бы пришлось постараться, чтобы нырнуть и удариться при падении головой. Один индеец такое проделал однажды — вождь племени по имени Сатанта. Томми слышал об этом от старика охранника по имени Мак Мид, который постоянно курил сигарету за сигаретой.
Мак Мид был просто кладезью тюремного фольклора, и ему нравилось рассказывать Томми о чем-то необычном. Не так уж много заключенных интересовалось тюремным фольклором. Когда Мак выяснил, что Томми — более любознателен, чем обычные убийцы, он стал словоохотливым и рассказал Томми даже больше, чем тому иногда хотелось послушать. Он даже выхлопотал для Томми специальный пропуск и отвел его в ту часть тюрьмы, где Сатанта и совершил свой последний прыжок.
— С виду не так уж и высоко, — признал Мак, скосив глаза наверх. — Но старик Сатанта был ловкач. Он великолепно нырнул. Ударился головой и помер на месте.
Томми заложил этот файл в память. Ответом обществу стал великолепный нырок. Иногда он садился поиграть с Маком в карты — ему было интересно вызнать у того и о других самоубийствах в тюрьме. Причем долго выпытывать ему не приходилось. Маку нравилось рассказывать об известных своими подвигами заключенных, которые творили всякие ужасы с собой или с соседями по тюрьме. Один из них совсем недавно, наслушавшись того, что бубнили тюремные священники, настолько во всем запутался, что взял да и отрезал себе член, решив, что именно в этом была причина всех его грехов. Но большинство самоубийств в тюрьме были просто обычными самоубийствами — одни вешались, другие перерезали себе горло, третьи стрелялись — все то же самое, что и на воле. Но ни одно из них не было столь точно рассчитанным, как то, что совершил Сатанта.
Томми частенько глядел в пустоту в середине здания, когда делал перерывы в работе над шифром. Ему хотелось получше узнать эту пустоту — чтобы она стала привычной и удобной. Он вел себя хорошо главным образом по той причине, что не хотел, чтобы его перевели куда-нибудь. Ему хотелось остаться у себя в четвертом ярусе и чтобы в двух шагах от его камеры была эта пустота. Пустота была запасным вариантом, рисковать которым он не хотел. Пустота нужна была ему больше, чем что-либо иное или кто-либо иной. А было это потому, что он пришел к выводу: существует лишь одна чистая разновидность мятежа. Однажды, доведенный скукой почти до слез, в доме отца в Риверсайде в Калифорнии он подобрал какую-то книгу Камю и дочитал ее почти до конца. Название ее было «Сопротивление, Мятеж и Смерть» и она вызвала у него такой интерес, что он купил и прочитал еще две-три книги Камю. Ему показалось, что главной мыслью в этих книгах была мысль о самоубийстве. К тому времени, как он вышел из больницы, после второй попытки голодовки, книги Камю смутили его, заставив осознать, что, возможно, он и не собирался умирать. Если умирать, то к чему избирать для себя такой неряшливый способ, когда существуют совершенно надежные средства? Он пришел к выводу, что ему лишь нужно было удостовериться, что общество предпримет что-то, чтобы сохранить ему жизнь. Осложнялось дело тем, что происходило все в дорогой больнице с самой лучшей в Остине кухней, а это как раз было то, против чего он выступал.