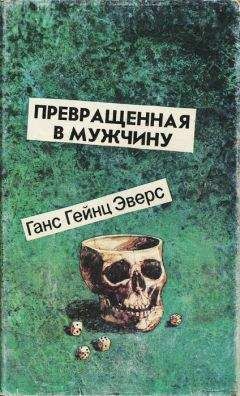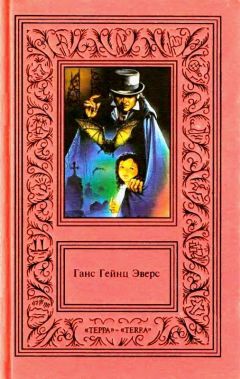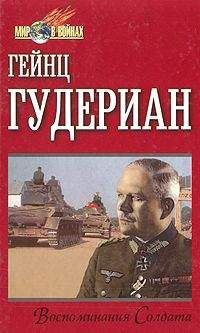Он тяжело дышал. Испуг был написан на его лице. Затем он протянул ей свой инструмент — маленькое железное кольцо со стальным пером в середине.
— Это — варган, — сказал он. — У каждого пустертальца найдется такой в мешке.
Он показал ей, как на нем играют. Одной рукой держал кольцо у открытого рта, а пальцем другой тренькал по перу, которое журчало и жужжало, встречая резонанс во рту.
«Варган, — думала она, — шестичанный варган». Она закрыла глаза и почувствовала, что должна за что-то держаться.
Затем она снова услыхала его голос.
— Сегодня жарко, барышня. Я уже тоже скинул куртку. Но так свободно, как барышня, я сделать не догадался.
Она взглянула, только теперь заметив, что свою куртку и шляпу он повесил на сук. На нем были длинные чулки, штаны до колен, широкий черный кожаный пояс и рубаха. Все белое и чистое — в честь праздника Петра и Павла.
Она хорошо видела, что он ее желает. Горячо, страстно, но и застенчиво тиролец смотрел на нее. Эндри чувствовала себя в безопасности — никогда он не осмелится прикоснуться к ней. Она высокомерно засмеялась.
— Что написано на твоем поясе? — спросила она Бартеля.
Он снял его и передал ей. Здесь были изображены два пылающих сердца, пронзенных стрелою с пером. Кругом надпись: «Истинная верность и нежность связывают нас навеки».
— Это тебе вышила твоя любимая?
— Нет, нет, — отвечал он, — еще дедушке его жена, а мне досталось по наследству.
— Спой, — сказала она, — но не слишком громко.
Он тотчас же начал петь вполголоса. Она не прислушивалась к тому, что он пел, откинулась назад, положив голову на мягкий мох.
Нет, Ян не приедет! Он забыл бабушку, как и орла, как и ее, — ее-то уж точно забыл. Помнит ли он еще, что когда-то ее целовал? Теперь он целует другую — из кафешантана.
— Знаешь ты, что такое кафешантан? — спросила Эндри.
— Очень хорошо, — отвечал Бартель. — Когда я состоял в императорских егерях, был там один обер-егерь, приехавший из Вены. Он рассказывал о кафешантанах. Это большие театры, где выступают красивые голые женщины. Они стоят чертовских денег, так как это великие актрисы.
«Великие актрисы! — думала Эндри. — Великая актриса — и та чужая женщина! Что я представляю собой в сравнении с ней? Глупую, незрелую деревенскую сливу!..»
Бартель пел о красивой девушке, равной которой нет ни в Испании, ни в Англии, ни во Франции, ни в Тироле, ни в Баварии.
Она резко поднялась. Рубашка сползла с ее плеча.
— А что, Бартель? — воскликнула она. — Как ты думаешь, могла бы я показывать себя?
— Думаю, да! — горячо согласился он. — Вы могли бы, барышня, всякого парня пленить!
«Только одного — нет! — подумала она, — Только не Яна!»
И она сказала:
— Почему же ты меня не поцелуешь?
— Я бы очень желал! — прошептал парень.
«Токайское вино, — подумала она, — порыв! И Ян целует чужую — никогда он не приедет ко мне…»
— Я бы очень желал, — повторил Бартель, — так бы желал…
Растрепанно было у нее в голове. Если бы только тут был родник. Издалека до нее доносился его голос:
— Очень бы желал…
И она подумала:
— Чего же ты ждешь?
Нет, она не подумала, она сказала это громко, во весь голос. Громко — и сама встрепенулась, испугалась. Почти приказом прозвучали ее слова: «Чего же ты ждешь?»
Он все еще колебался. «Что она плетет?» — думал он. Как это у них делается, он знал очень хорошо. Это стоит стольких усилий, и времени, и денег — в ресторане и на танцах. Надо долго ухаживать и льстить, упрашивать и уговаривать, пока девушка пустит в свою комнату. И должна при этом быть темная ночь, чтобы никто ничего не знал. А здесь, светлым днем, в праздничное утро, во время церковной службы прибегает к нему в лес барышня. Прибегает в рубашке, ложится к нему на мох, не стыдится — нет, сама его зовет. Она, должно быть, совсем свихнувшаяся!
Эндри взглянула на него, высокомерно подобрав губы. Она бросила соколов на жаворонков, потому что Ян их любил! Кузен забыл ее! Он целовал другую — она будет целовать Бартеля, как целовала Яна. Это сотрет с ее губ его поцелуи!
Поцелуй — он займет одну минуту — и она рассчитается с кузеном. Тогда она может встать, пойти домой, не бросив более ни одного взгляда на этого парня. Пусть бежит за ней, несет ее халат!
— Иди! — сказала она.
Взяла его голову и поцеловала в уста.
Итак, это было сделано. Но он не отпускал ее. Держал крепко, прижимал все теснее. Чего он хочет от нее?
— Уходи! — крикнула она. — Уходи!
Оттолкнула его от груди, ударила, ударила сильно — прямо в лицо.
Бартель отскочил. Лицо его пылало. Что такое? Она его поцеловала, а затем бьет? Что он — ее собачка, которую она может пинать? Его кровь бурлила. Ни одна девка этого не смеет — и барышня тоже! Она лежала перед ним нагая, и он бросился на нее.
Началась борьба. Она громко кричала, оборонялась руками и ногами, впивалась в его тело, как делали сокола. Разорвала его рубашку. Над собой она видела его грудь, противную, густо поросшую черными волосами.
Он уже не щадил ее, запрокинул ей голову назад, железными тисками сдавил грудь. Наклонился над ее телом, тяжелым сапогом отодвинул колено.
В голове ее все спуталось, все закружилось. Она чувствовала, что теряет силы, как бы тонет в середине Рейна. Ощутила что-то вроде судорог, и волны сомкнулись над нею.
Она лежала тихо, окровавленная, всхлипывая и дрожа. Допустила — все допустила!
* * *
Эндри открыла глаза и посмотрела вокруг себя. Бартель исчез, также исчезли с куста его шляпа с пером и куртка с пуговицами из оленьего рога. Возле лежала ее рубашка, запачканная тряпка. Она обвязала ею тело, как могла, накинула сверху халат. Тихо пробралась через лес, далее побежала лугами. Бежала, бежала. Пришла к парку, обошла дорожку, пробираясь кустами.
Полдневная жара. На замковом мосту ни единого человека. Она быстро прошла через мост и через ворота. На дворе было совсем тихо, очень пустынно. Прокралась вдоль стен, быстро вбежала по лестнице в свою комнату. Никто ее не видел, никто.
Она бросилась на кровать и лежала на ней, глядя вверх — неподвижно, точно окоченела, и очень долго. Затем постепенно оцепенение стало проходить. Она плакала, всхлипывала, стонала. Ее тело извивалось, руки цеплялись за подушки, в которые она зарывала свою голову.
Теперь все было ясно. Она отлично знала, что произошло. Это была ее вина, только ее! И тогда, когда она позволила Яну уехать, заперлась в своей комнате, выбросила ключ. В том, что она не пошла к Яну в ту ночь, — в этом тоже была ее вина.
И сегодня, сегодня — тоже ее вина, только ее вина!
Ничем она не могла себя оправдать! Она этого, конечно, не хотела, этого — нет. Она защищалась, боролась до крови. Он преодолел ее ослабленную вином силу, бросился на нее, как зверь. Грубым и диким насилием взял он ее.
И все же это была ее вина! Нагишом она побежала в лес, подсела к нему на мох. Дразнила его страсть, подстегивала его кровь, сама предложила ему свои губы. Тогда он взял и ее тело… Разве он не был прав?
Тяжело страдая, она громко плакала, засунула палец в рот и укусила его. Разбитая и подавленная, Эндри лежала еще несколько часов, беззвучно плача.
Стемнело. Слабый лунный свет пробился через окно. Она встала. Подушка ее была мокра, но сухи и воспалены глаза. Оделась, вышла из своей комнаты и из замка. Она побежала к лесному домику, где жил Бартель.
Ни одного слова она не сказала ему. Но оставалась у него всю ночь.
Она была как безумная в это время. Днем бегала по окрестностям, кое-где присаживалась, устремляла взгляд на небо. Мучила Петронеллу, а затем дарила ей белье и платья. Без цели и плана скакала верхом, спрыгивала и погоняла свою кобылу! Та, одна, в мыле и пене, прибегала в конюшню.
Бабушка все это хорошо видела. Она ласкала ее по лбу и щеке.
— Это пройдет, — говорила она. — Верь мне, дитя мое. Он вернется назад в Войланд!
Она ничего не отвечала. Только усмехнулась, когда была одна. Ян — в Войланде, чем это ей поможет теперь? Он может оставаться там, где находится, — здесь нет больше места для них обоих.
Каждую ночь она бывала у Бартеля, каждую ночь.
Когда днем она выезжала с ним на охоту, то обращалась с ним хуже, чем с последним слугой. Ни с кем из прислуги в Войланде она не позволила бы себе так разговаривать. Он делал все, что она приказывала, по ее первому слову. Только усмехался карими глазами. Он знал то, что знал…
Когда он пел, она кричала на него: она слышать не могла его песен. Часто он становился ей так противен, что она отворачивалась, лишь бы его не видеть. Она хотела бы его топтать, плевать ему в лицо.
Но наступала ночь, и она снова шла в лесной домик. Она разбила свою копилку, глиняную свинью ростом с кролика. Туда бабушка бросала ей талеры, а также и золотые монеты, когда бывала в хорошем настроении. Эндри взяла деньги и отдала их Бартелю.