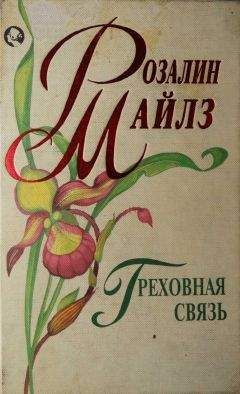— Малость простудилась. Вот и все. Сейчас со всем этим разберусь, посмотрю, что осталось для выставки и отнесу туда по дороге домой.
Он замешкался на пороге ощущая какое-то смутное беспокойство, но не понимая его причины.
— Послушай, Алли… я подумал, что кому-то из нас надо было тогда позвонить твоему отцу и сказать, что ты задерживаешься, и объяснить причину. Мне что-то…
— Да все в порядке. Нечего беспокоиться. Никаких проблем… — Снова он почувствовал, как его поставили на место.
— Я беспокоюсь о тебе, Алли, — разозлился он. — А когда увижу твоего отца, то скажу ему. — Он повернулся и хотел выйти.
— Нет! — Крик явно вырвался у нее помимо воли. — Нет! Нет! Не надо!
В два прыжка он очутился перед ней, расшвыривая горы бумаги, схватил за плечи и посмотрел в глаза. То, что увидел Роберт, отбросив белый водопад волос с ее лица, ошеломило его.
— Боже мой, Алли! Что случилось? — В нем закипала ярость, он готов был взорваться. — Кто, черт побери, сделал это?
Только глаза можно было узнать на опухшем от ран и синяков лице, но и в них была такая безнадежная тоска, какой он никогда не видел. Она смотрела на него сквозь щелки глаз, черных и заплывших от побоев. Одна скула была расцарапана, словно девушка ударилась о дверь или стену; а другая — рассечена, причем такую рану явно мог оставить мужской перстень. Губы распухли и посинели. Роберт почувствовал, как к глазам подступили слезы.
А она уже плакала, тихо и безнадежно, как побитый ребенок.
— Ну, ему это так не пройдет! — Он еще никогда не испытывал такого гнева. — Я пойду в полицию, Алли. Я засуну его за решетку — пожизненно!
— О, Роберт! — Даже голос у нее изменился. Казалось, это говорит не юная девушка, а умудренная горьким опытом женщина. — Чего хорошего из этого выйдет?
— Что ты хочешь сказать?
— Он всегда так, когда напьется. Говорит, что я похожа на мать.
— На твою мать?
— Она была танцовщицей — разъезжала с труппой по стране. Они приехали сюда из Америки, но она англичанка. — Теперь ему стало ясно, откуда взялась у нее та неавстралийская интонация, которая так привлекла его. — Он влюбился в нее. Предложил свой дом. Но она не могла его выносить. Нашла другого и сбежала. А он не забыл и не простил. Говорит, что все женщины врожденные лгуньи и шлюхи, и это можно только силой выбить из них.
— Но ты, Алли! Ты?
„Ты сама невинность, — вертелось у него на языке. — Как ему в голову могло прийти наказывать тебя, бить…“ Его трясло от негодования И если бы сейчас в дверь вошел Джим Калдер, он прибил бы его на месте. Чтобы человек мог сделать такое…
— О, Алли, бедная девочка, бедняжка, милая…
Чувства в нем смешались и, казалось, весь мир перевернулся. Только сейчас вся боль выплеснула из нее; горькие слезы полились по избитому лицу. Ее слезы отдавались в нем острой болью: он чувствовал, как внутри все кровоточит и разрывается. Девушка боялась поднять на него глаза, ей было стыдно от того, что ее избили, как будто она сама была виновата Ему хотелось помочь ей, исцелить, вобрать ее в свою душу. Он чувствовал, как маленькое тельце трепещет в его руках, вдыхал нежный, детский запах волос, смешанный с резким запахом горя. С бесконечной нежностью он обнял ее. Она прильнула к нему, погрузилась в его объятье, словно там и родилась. Не выпуская ее, он прижался губами к макушке и погладил гладкие светлые волосы. Потом повернул ее заплаканное лицо и поцеловал в губы.
Время словно остановилось. Радость охватила его душу и отозвалась во всем теле, вырываясь в бесконечность. Он не мог сказать, где кончается его жизнь, его дух, его физическая реальность и начинается ее мир. Она издавала какие-то отрывистые бессмысленные звуки, какие-то животные нежные всхлипы и шепоты, мурлыкая от восхищения, подставляя его ласкам лицо, как цветок, тянущийся за солнцем. Он вновь и вновь целовал ее, прижимая к себе все крепче и крепче, упиваясь близостью ее тела, всего ее существа, раскрывающегося перед ним подобно девственной земле перед своим покорителем и владыкой. Горячо бьющееся сердце, теплая, прижавшаяся к нему плоть, шелковистая кожа спины, доступная его рукам, благодаря открытому летнему платью, женственная округлость ее бедер — все было покорно его власти, его поклонению, его…
Осознание происходящего обожгло его внезапно, как огонь, а с ним проявился страх, какого он никогда в жизни не испытывал — не за себя, за нее. Разжав объятия, он отступил на шаг.
— Алли! Боже мой! Что я делаю! О, Боже, Боже!
Глаза ее расширились.
— Роберт! Что случилось?
— О, Алли! — Из самой глубины его существа исторгся стон. — Я не должен был делать этого!
— Но почему?
Ее избитое лицо застыло в недоумении, маленький подбородок поднялся с вызовом. Он совсем растерялся.
— Почему?
— Почему не должен, если я хочу этого?
— Но, Алли, разве ты не понимаешь…?
— Роберт, обними меня, целуй — пожалуйста!
Она мучает его, мучает их обоих. Надо прекратить эту боль.
— Алли! Я не должен! Я должен объяснить тебе — почему нельзя…
Она отпрыгнула от него, лицо ее пылало.
— Я понимаю одно! Тебе плевать на меня, на мои чувства! Я для тебя ничего не значу, ничего! — резко повернувшись на пятках, она выскочила из комнаты.
— Алли, да нет! Это не так! Выслушай меня, пожалуйста, выслушай… — Он вдруг пришел в себя и бросился за ней.
Но она оказалась проворней. До его слуха донесся только отдаленный топот ног и стук наружной двери. С поникшей головой, весь дрожа, он вернулся в свой кабинет, чтобы предаться пыткам горьких мыслей.
Так вот что это было! Его попытки помочь ей, его желание стать ей другом — все, все обнаружило теперь свое истинное лицо. Что ввело его в такой соблазн — самонадеянность? Или просто непонимание своей собственной человеческой природы, своих животных инстинктов, своей плоти и крови?
Когда ты впервые возжелал ее, преподобный? — сыпал соль на рану злой демон. Когда ты впервые впустил в себя помысел возлечь между этих стройных бедер? Ну да, ты же хотел быть ей отцом, не так ли? Что же за отец такой, что хочет плоти дщери своей? И при этом мнит, что осуществляет волю Божию и промысел на сей грешной земле? Ты был ближе к ветхому Адаму, он же первый из грешников, первая плоть и кровь — а что за сладкий кусочек плоти она, вот здесь, в твоих руках, а? И ты мог делать с ней все что угодно — не правда ли? — все что угодно…
Он громко стенал, мучимый этой пыткой. Каждая его клетка еще живо помнила стройное тело, прижавшееся к нему, руки еще бродили по шелковой ложбинке ее спины, каждая мышца вторила ее ускорившемуся пульсу. Помимо воспоминаний, он сражался с бешеным возбуждением собственного тела, откликающегося на эти воспоминания. Вот так воспользоваться доверчивостью девочки! И когда избитая и израненная, она обратилась к нему за утешением и защитой, что же она нашла? Что он такой же, как и все, и не может удержаться, чтобы не распустить руки? Он не лучше ее отца — нет, хуже!
Роберт не мог думать, не мог молиться. Час шел за часом, а его ум, подобно терзаемому на дыбе животному, возвращался усталый на круги своя. Подобной боли он никогда не испытывал. Надо выйти. В ярости выбежал из дома, решив идти, пока не свалится. Солнце уже садилось, день подходил к концу, а он яростно шагал по мысу прочь от Брайтстоуна, держа путь в сторону моря. Совершенно не узнавая местности, он вышел с дальнего конца мыса и побрел по бесконечным дюнам в сторону крутого обрыва над бухтой Крещения. Вокруг, насколько хватало взора, тянулись дюны — чаши белого песка, пустые, как его сознание. На мили кругом не было ни души, даже птица не пролетала над этим пустынным местом. Он брел, словно последнее человеческое существо во вселенной.
Поднявшись на самую большую дюну, он увидел ее. Она стояла на коленях — в позе, наполненной бесконечным отчаянием. Словно ледяная рука сжала его сердце. Освещаемая последними лучами вечернего солнца, она повернулась к нему из сияющего песка.
— Алли…
Он помчался к ней. Глаза ее, не моргая, смотрели на него, все ее тело звало к себе. Когда он был уже рядом, она вскочила на ноги и раскрыла ему навстречу свои объятия.
— Роберт! — позвала она мягко, негромко, но с какой-то неистовой силой.
Он брел к ней как слепой: ничто не могло удержать его. Тела их соединились с трепетом изнывающей от ожидания плоти, души встретились, словно спали все оковы, и они обрели друг друга в доверии, всепрощении и любви. Они поцеловались — это был их первый поцелуй, первый поцелуй приятия друг друга как мужчины и женщины. Он гладил ее волосы и целовал багровые кровоподтеки, целовал с неослабевающей силой, осушая ее слезы и смешивая их со своими слезами радости.
— Роберт, прости…
— Милая, тебе не за что просить прощения…