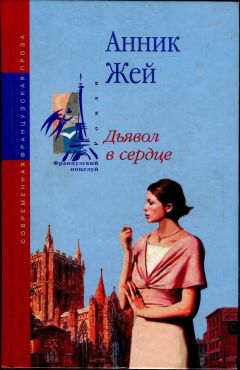Прямо напротив входа стоял дубовый стол, над которым висело распятие. Требники и молитвенники стояли храмовыми колоннами с каждой стороны деревенской скамьи, грозя обрушиться. Я села на канапе, и башня рассыпалась. Больше я не решалась пошевелиться: малейшее движение могло стать причиной обвала.
Пока Вейсс слушал сообщения из Вильжюифа, я вдруг поняла, услышав голоса пленников Лабиринта, что они там, а я уже на воле. Жизнь трепетала рядом. Это надо было отпраздновать! «Выпьем, капитан! Чокнемся за Провидение», — сказала я себе, проводя инвентаризацию письменного стола.
Слева направо стояли компьютер, вроде бы виденный мной в Поль-Бруссе, принтер, дисковод, маленький музыкальный центр, колонки, авторучка «Уотерман», десять черных фломастеров, пачка «Мальборо», множество окурков «Житана», пять дискет, Библия на английском, листы «Навигатора» 80 граммов, колода из 32 карт, «Израиль» Бернарда Франка (как Вейсс отыскал оригинальное издание?) и «Искра души» Отца Экхарта. Два компакт-диска привлекли мое внимание: «Месса на Рождество Богородицы» Вивальди и последний альбом Бьорк. Я приподняла пустой стакан и вдохнула запах солода.
Слава Богу, кроме проповеди любви, у Вейсса было много занятий. Этот кавардак понравился бы Бэкону. Я взяла пресс-папье, напоминавшее «Однорукого Амура» Сезанна. Если всмотреться поближе, ангел с обрезанными крыльями был похож на Вейсса. Зрачки, загадочная улыбка, тога, — фигурка казалась миниатюрой с хозяина дома. Священник не страдал нарциссизмом, — кто же подарил ему двойника? Признательный раковый больной? Обращенная в веру проститутка? Таинственный курильщик «Житана»? Я поставила бронзовую вещицу на место, на каракули, которые попыталась расшифровать.
«Грязные деньги: смертельный риск для наших демократий? Тысячи миллиардов долларов мафиозных денег, не считая торговлю оружием, наркотиками, проституцию и т. д.» Затем следовало несколько цифр. Тонкий, черный, почти неразборчивый почерк, — это почерк Вейсса? Он готовил новую книгу?
Повернувшись спиной, широко расставив ноги, Люк диктовал сообщение некоему Ксавье. Он положил трубку, снова набрал номер, как будто был один в комнате. Он всю ночь проведет на своей фосфорецирующей скамеечке? Чувствовал ли он непривычность моего присутствия или ему это было абсолютно безразлично? Я завидовала его спокойствию. Мой приход на остров мог бы показаться победой Пятницы над Робинзоном, но ведь от маленького дикаря можно было ждать чего угодно.
Шаг вперед, два назад, бросок, поворот: Вейсс навязывал мне па сложнейшего танго. «День, когда ты меня полюбишь, пришел», — подумала я с относительным удовлетворением. Я подумала о пути, пройденном с момента вторжения Вейсса в мою жизнь раковой больной, вышедшей из комы. Ночь могла наступить в лесу Арденн, Вейсс взял мою руку.
— Будьте как дома, — сказал он, зарывшись в свои телефонные справочники.
— Вы что-нибудь потеряли?
— Я должен прослушать все звонки сегодня же, вы знаете почему.
— Я себя спрашиваю, настолько ли я атеистка, насколько ей кажусь.
— Доброта всегда рядом с верой: эта доброта сильнее зла.
Вейсс не потрудился обернуться. Его короткие волосы, его затылок, черный свитер, казалось, объединились против меня. Он снова напомнил мне крестьян, которых Жан-Франсуа Милле расположил спиной к зрителям. Ты ничего не знаешь о них, но все сказано. Искусство показывало тайну людей, чтобы лучше ее раскрыть. У любви было такое же свойство распознавания.
— Церковь посещают все реже, но религия возрождается, — категорично заявила я, чтобы положить конец своему смятению.
Вейсс подошел. Его дыхание участилось, я услышала это с тревогой, как врач, следящий за первыми симптомами усиленного сердцебиения больного. Я бы отдала все, вплоть до сердца Мод, чтобы узнать правду о его сердце. Не ту, показную, а другую, тайную, тоже священную. Довольно мы потанцевали на тротуарах Буэнос-Айреса: пришло время забыть о танго и перейти к признаниям. На внутренних пляжах билось о пирс море равноденствия. Бакланы, на которых смотрел Христос бездны, облетали заливаемые морем утесы. Мое желание было таким сильным, что оно снесло плотину, и боль согнула меня пополам. «Во имя жизни, во имя моей плоти, поцелуй меня», — говорила моя молитва.
— Вы думаете, что можно сравнить возвращение священного с возвращением подавленного чувства у Фрейда? — проговорила я голосом, который не мог пробудить сомнений.
Если он меня разденет, я оставлю бюстгальтер.
— Фрейд видел в религии мираж, возникающий как ответ на наши страдания, — ответил священник, соблаговолив обернуться.
Его благодарный взгляд вдохновил мое упорство. Желание не только не ослабело, оно стало более острым, как отточенная о камень шпага. Придонные волны, полные водорослей, бились о дамбу, пена взлетала на немыслимую высоту.
— Наука не признает священного, но, отвергая всякую трансцендентность, мы усиливаем варварство, не так ли? — спросила я с идиотским видом, наклоняясь, чтобы он увидел кружево из «Бон-Марше».
— Нет ничего более варварского, чем религиозные войны. Посмотрите на права человека: атеистический гуманизм существует.
Я обвела комнату взглядом: так в Ливане оглядывают закуски, перед тем как сесть за стол. Так же, как было два Вейсса — человек из крови и плоти и добрый пастырь, так и во мне жило два существа — влюбленная женщина и писака.
Женщина, несомненно, была ослеплена, но у писателя была способность к двойному видению. Мой взгляд фотографировал каждый квадратный сантиметр берлоги, где жил тот, кто являлся также и персонажем. Мне хотелось кое-что записать, набросать план, но не могло быть и речи о том, чтобы открыть карты. Вейсс ни в коем случае не должен догадаться, что я веду дневник. Насколько я знала ангелочка, ему совсем не понравилось бы то, что я взяла на себя смелость рассказать нашу историю.
«Какую историю?» — спросил бы он, раз и навсегда выставляя меня за дверь. Было не время все портить.
— Отсюда — важность доверенной нам задачи, нам, помощникам Господа, — снова заговорил священник, принося из кухни бутылку водки и два стаканчика. Он бросил в свой стакан четыре кубика льда, оставив один мне. Говорила ли эта демонстрация некой воздержанности о том, что у отца Люка нет никаких недостатков, ни малейшей щелочки в доспехах ангелочка? Стало быть, в той борьбе, которую каждый человек, со времен Иакова, ведет с Ангелом, Вейсс победил раз и навсегда? Его добродетель казалась обескураживающей. Из духа противоречия я выпила свой стаканчик залпом. Жар сделал мои щеки пунцовыми. Под допингом алкоголя я бросилась вперед очертя голову.
— У меня соринка в глазу.
На эту ложь во благо меня вдохновили слезы, выступившие от «Смирнофф». Вейсс подошел. Как мелкий воришка, я схватила его руку и украдкой поцеловала ладонь. Плоть была нежная и теплая, как голубок. Вейсс отпрыгнул назад, на почтительное расстояние.
— Некоторые «помощники Господа» влюблены и не делают из этого историй, — прорычала я.
У меня внутри все закипало. Мне надоело ходить вокруг да около. Зачем он привел меня к себе? Чтобы обозначить вехами пути, связывающие женское начало со священным?
«Это случилось», — сказала я себе, понимая, что совершила оплошность. Усевшись поудобнее на диване, в окружении газет, я спросила себя, делает ли «Балтазар» свое дело. Я поклялась бросить вызов священнику, но парень казался упрямым. Я опустила голову, разглядывая туфли, лак на ногтях. Взгляд критически поднялся до бедер, обтянутых черными брюками. Вопреки внешнему впечатлению, я была охотником, а этот мужчина с мощными руками — дичью. Подняв голову, я пристально посмотрела на свою жертву, стараясь ее загипнотизировать. Если через пять минут Вейсс не бросит меня на свою пыльную постель, мне остается уйти в монастырь. Вейсс сидел на своей оранжевой скамеечке С выражением лица корсара, который перед абордажем спрашивает себя, а что, собственно, за груз на судне. Я была невестой пирата, настоящей недотрогой, единственная форма святости, которую я могу от себя требовать. В золотистом свете, исходящем от лампы, зрачки священника казались бездонными колодцами. В краях колодца отражалась моя звездная ночь. Черной и Полосатому Вейсс понравился бы. Подумав о Сиамке в агонии, я уронила несколько слезинок, вовсе не от опьянения, а от печали. Такова жизнь: всегда привкус соли в праздничном пироге.
Зазвонил мой мобильный. Я достала его из сумки.
— Алло? Это Лилли, твоя сестра.
— Меня здесь нет.
— Ты меня не удивляешь.
— Я решила поберечь себя, — сказала я Вейссу, отключаясь.
Он кивнул со своей терапевтической улыбкой и наклонился к миниатюрному музыкальному центру. Я узнала первые такты «Магнификата ре мажор». Когда хозяин дома распрямился, стразы креста засверкали. «Не искушай меня больше», — взмолилась я совсем тихо. Я представляла изгиб плеч, грудь, мощную, как средневековая крепость, рот, подобный пуховой подушечке. Этот рот был создан не для того, чтобы молиться, а чтобы порхать там, где плоть любит ощущать губы. Когда Вейсс прищурился, ресницы склонились над озером, как летняя листва.