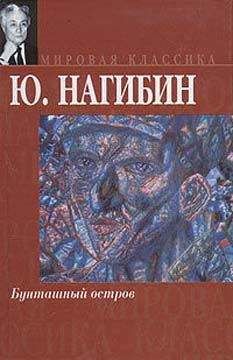Что должна была чувствовать Анна, читая письма, адресованные «смышлюной и симпотичной девочке», ее дочери? Внезапно Таня всхлипнула. Она сама не поняла, из чего родился этот влажный звук: из жалости к матери или к себе самой? «Неужели правда, что Охта — мое будущее? С Мишей, Бемби, Ирэн, Белолицей, вернувшимся из узилища Сережей и гастролером Арташезом? Они оплетут меня, запутают в свои дела, я никогда от них не отделаюсь, потому что не умею отказывать людям, если вижу в них хоть какую-то слабость. И я вляпаюсь в настоящую черную беду. Я могла бы играть в эти игры, в «бесстрашный» эпатаж, в помоечную вольницу, пока жива была мама. Я знала, хоть и скрывала от самой себя: когда станет совсем плохо, она придет, возьмет за руку и уведет. Но мамы нет, а я слабачка, я не сумею себя защитить. Сейчас, когда их разбросало по свету, самое время «сделать ноги», как говорит принцесса Ирэн. Конечно, я выполню ее просьбу и просьбу Белолицей, но это все. И Мишке придется изредка писать, а то еще учудит чего этот «дисцеплинированный» мальчик, там слишком много «гранадов» и прочей взрывчатки».
Приняв решение, Таня несколько взбодрилась и стала прикидывать другие возможности реализации своей молодости и безграничной свободы. Начисто исключался институтский круг. Парней у них мало, и все выглядели законченными чиновниками. Уровень девушек отличался от уровня Бемби, Ирэн и Белолицей лишь качеством шмоток. Здесь учились детишки весьма устроенных родителей, черта с два иначе попадешь на английский факультет иняза, и туалеты студенток стояли на высоте. Разговоры же их носительниц имели крайне прагматический характер, и все — о будущем. Оно заботило. Идти в гиды или в технические переводчики никому не хотелось. Вершиной карьеры представлялось замужество с фирмачом. Этажом ниже — замужество с любым иностранцем, только бы выбраться на волю, а там видно будет. Еще ниже котировалась валютная проституция, которая в нравственном смысле никого не смущала, но многих сдерживали семейные обстоятельства. Выход был — перебраться в Москву, это далеко от родного порога, да и возможностей больше. Но все знали, как строго охраняют свои пределы столичные интердевочки. Таню эта перспектива не увлекала, настолько в ней еще оставалось опрятности. Она подумывала о художественном переводе, но была дружно высмеяна: в крошечную кормушку уткнулись рылами такие крокодилы, что не подступиться. С год назад Таня оказалась в любопытной компании и, как говорится, прижилась там. Компания, довольно текучая, состояла из людей степенных, прочно определившихся в жизни, в большинстве семейных, хотя жен на свои встречи они не приглашали. Костяк составляли киношники, художники, журналисты, театральные администраторы, но были и «примкнувшие»: поэт-маринист, знаменитый бард и невероятно светский юрист-картежник. Все прекрасно одевались, у каждого был свой стиль: денди уайльдовых времен в крылатке; энергичный американец типа Роберта Кеннеди — черный блейзер и белый банлон; ковбой — замшевая куртка с бахромой, техасы, сапоги на высоком каблуке; русский барин: тройка, часы в жилетном кармашке с золотой цепкой; парижский художник: широченная бархатная куртка, яркий бант на груди; хиппи: расстегнутый до пупа батник, заношенные вельветовые брюки, обруч на длинных, до плеч, волосах. Все как один говоруны, остроумцы, отличные рассказчики, нашпигованные последними новостями во всех областях искусства и мировыми сенсациями. Ресторанные ужины с ними превращались в карнавал, фейерверк, особенно старались они в присутствии московских гостей, испытывая к столице чуть ироническое почтение.
Была в них некоторая жесткость, которая Тане импонировала. Даме, принятой в компанию, не полагалось ломаться, если на нее клали глаз. Делалось это не вульгарно. Будто внезапная влюбленность постигала давно знакомую пару, и окружающие вели себя соответственно: с уважением к чужой страсти. Никаких шуточек, насмешек.
Мать виновата, что ее доверчивое восхищение этими блестящими людьми замутилось, а там и вовсе сгинуло.
В компании периодически появлялся знаменитый журналист-международник из Москвы. Танин хороший английский язык привлек его высокое внимание, и зазвучали золотые трубы незамедлительно увенчанной любви. Теперь, приезжая, он всякий раз предъявлял на нее претензии, которые все уважали, в том числе она сама. Это стало напоминать роман, что не мешало другим мгновенным влюбленностям: в Оскара Уайльда, ковбоя, Роберта Кеннеди.
Однажды он зашел за ней, чтобы вместе ехать в Териоки на пикник. Мать была дома, и Таня не без гордости представила ей журналиста, вот, мол, это тебе не охтинские дружки — мировая знаменитость. Элегантный, с утомленной улыбкой на узком загорелом лице, международник (его чуть портила лишь какая-то страусиная плешь в серых волосах) взял руку матери, поднес к губам, но не поцеловал, а резко-почтительно опустил. Таня обмерла, сочтя этот жест хамством, но мать приняла как должное. Она ходила на приемы в консульства, ей был знаком новый гигиеничный способ приветствовать даму.
Они обменялись несколькими банальными фразами, но именно в банальности их Таня проглянула холод, чуть ли не отвращение матери к гостю. Мать была человеком пластичным и при желании умела обаять любого, что и доказала в простодушной, но по-своему проницательной (не терпела гонора, фальши, лукавства) охтинской компании. Сейчас мать была вызывающе неприятна и малословна. Как ни странно, знатный гость этого не заметил. Он привык считать себя подарком для окружающих и если встречал равнодушие, тем паче холод, то относил это за счет смущения собеседника. «Какая интересная у тебя мать, — заметил он, когда они вышли. — Ты, пожалуй, на нее не потянешь».
— Откуда взялся этот прохиндей? — спросила на другой день мать.
— Что ты понимаешь? — возмутилась Таня. — Это лучший международник в стране.
— Вполне допускаю, — холодно сказала мать. — Но быть первым в школе для негодяев не велика честь.
Таня оторопела. Она никогда не читала корреспонденции своего друга, но все как один цокали языком, когда произносилось его имя. Правда, восхищались его костюмами, часами «Роллекс», «мерседесом» последнего выпуска, коллекцией картин Рокуэлла Кента, пятикомнатной квартирой в престижном доме на Кутузовской набережной и другой — в Манхэттене, о литературной продукции как-то не говорили, но подразумевалось, что с этим все о'кей.
— Как ты можешь судить?… — проговорила она не слишком уверенно.
— Могу! — жестко перебила мать. — Кроет американцев на чем свет стоит, а сам отца родного зарежет, только бы сидеть в своей Америке. — Она усмехнулась. — Все познается в сравнении. Теперь мне кажется, что охтинский Анти-Сирано не так плох. Во всяком случае, не слизняк.
Таня не сразу поняла двойную шутку матери насчет «Анти-Сирано» — нос и красноречие — и разозлилась еще больше. Она оборвала разговор, но, когда злоба прошла, обнаружила, что ореол вокруг смуглого чела и страусиной плеши заморского гостя померк навсегда. Как же все-таки много значило для нее мнение матери!..
Их разговор имел еще одно последствие: Таня задумалась о своих блистательных друзьях, как бы навела их на фокус. И сразу резко обрисовалось то, о чем она и прежде догадывалась, но отгоняла прочь за душевной ненадобностью. Профессия для них была делом побочным. Они все что-то собирали: кто картины, кто иконы, кто старинную мебель, кто фарфор, кто разный антиквариат. Коллекционеры. У них имелись вещи высочайшей ценности, которые они время от времени давали на выставки. Не нужно было особой проницательности, чтобы понять: они жарят не на сливочном масле. Прекрасная их страсть подпитывалась спекуляцией, которую так, разумеется, не называли, и обманом, считавшимся торжеством опыта и знаний над лопоухим любительством. Все оправдывалось высокой целью собирательства, спасением художественных ценностей от утечки за кордон. Были специалисты по обиранию одиноких старушек, сохранивших в своем нищенстве какой-нибудь жакоб или ампир, были «комиссионщики», были какие-то «землеройки», суть их жульничества Таня так и не постигла.
В сущности говоря, это была та же фарцовка, только высшего разряда. Как жалки рядом с ними охтинские мародеры, отправляющиеся на химию за партию джинсов и в тюрьму за разгром ларька. Тут счет идет на сотни тысяч, но никто уголовной ответственности не подлежит.
Собиратели грамотнее Жупана, начитаннее Арташеза, интеллектуальнее Бемби, Ирэн, Белолицей, у них отлично подвешенные языки, они знают кучу всяких вещей, но Таня не могла вспомнить ни одного серьезного разговора, чтобы мнения столкнулись на какой-то бескорыстной мысли, а не на стоимости «предмета». Они избегали деловых разговоров, но их главный интерес порой вырывался непроизвольно из густой тени. Стоило кому-нибудь коснуться ненароком боли жизни, как тут же неслось тягуче: «Ску-у-у-чно!» Главное, чтобы не было скучно, а легко, весело, просто, необременительно. Набор удовольствий оставался неизменен: еда, выпивка, обмен информацией, постель. Прейскурант, мало отличающийся от охтинского. Там еще бывали травка, пилюльки и скандалы. Здесь никогда не ссорились, если же и покуривали, покалывались, то не принародно.