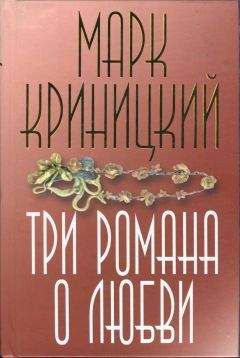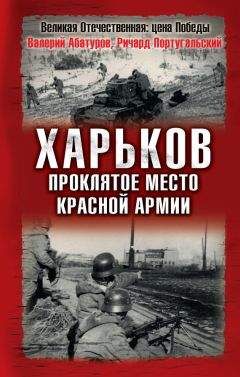До рассвета он писал, чувствуя, что слова его все-таки не могут передать самого главного. Он не знал, как ей объяснить, что власть прошлого над ним чисто внешняя. Не мог же он совершенно вычеркнуть Серафиму из своей жизни? Да в этом и не было никакой надобности. Правда, там был ребенок, но чем это могло мешать его чувству к ней, которое было так искренно и полно. Как трезвая и разумная девушка, она должна была это понять.
«Подумай, почему мое прошлое может тебя касаться? — писал он ей. — Ведь между мною и моею прошлою женою как раз не установилось той внутренней духовной близости, о которой я мечтаю в отношениях к женщине. Наша связь поддерживалась чисто внешним образом. Такою она и осталась. Я тебе говорю это с полной искренностью, потому что я же ведь не стану обманывать самого себя. Прошлого нет, я не чувствую его. Но я желаю, чтобы и ты могла сказать мне то же, т. е. что для тебя его тоже нет, ты его преодолела, поняла, что оно — ничто. Если же для тебя это невозможно, то я охотнее примирюсь с полным разрывом, и сделаю это ради тебя же, потому что до сих пор, по крайней мере, я высоко ставил искренность нашего взаимного чувства. Продумай мои слова и сделай выбор».
Он перечитывал по десять раз написанное, делал вставки и добавления, вычеркивал и, наконец, переписал письмо набело, надеясь, что сердцем она должна будет понять остальное.
В конце письма он сделал приписку, что не придет к ней до тех пор, пока не получит ясного, утвердительного ответа на все свои сомнения.
Это письмо он отнес на почту сам и долго стоял в нерешительности у почтового ящика. Потом, зажмурившись, опустил, и тотчас у него явилось сознание, что он поступил благоразумно и честно.
С этой мыслью он лег и встал и ходил целый день. Со службы он нарочно пришел попозднее, чтобы уже наверное застать дома вечернюю почту.
Действительно, Дарья подала ему письмо в знакомом светло-зеленом конверте. В нетерпении он прочел:
«Дорогой! Может ли быть речь о выборе? Лишиться тебя? Пусть ты был десять-двадцать раз женат, но ведь для меня-то останешься моим настоящим, единственным. Сквозь строки твоего письма сквозит как бы неуверенность, что я способна тебя понять. После того, что произошло между нами вчера, для меня уже невозможен возврат к прошлому. Души наши уже соприкоснулись. Я это почувствовала так мучительно-болезненно. Но это ничего, что болезненно. Это пройдет, и останется одна чистая радость. Твоя навеки Лида».
Вечером он пошел к ней.
Парадную дверь вышла отворять она сама. Это он угадал по ее легким, быстрым шагам.
— Сегодня я одна во всем доме. Понимаешь? — сказала она ему трепетным голосом; — Я боюсь тебя впускать. Я не отвечаю за себя.
Она обняла его за шею и, дрожа, прижалась.
— Нет, ты можешь ничего не опасаться, — сказал он, радостно усмехаясь, — потому что я на тебя смотрю не как на свою наложницу (она вспыхнула, и краска медленно и жарко расплылась по щекам), а как на свою жену.
Она потащила его за собой в комнаты.
— Садись и расскажи мне, как же мы будем с тобой жить. Подробно, подробно.
Они уселись у окна и, положив руки друг другу на плечи, опьяненные близостью и взаимным доверием, начали говорить.
— Сначала о ревности! — вскрикнула она. — Всего труднее мне было преодолеть ревность. Знаешь, когда я ревновала тебя к прошлому (теперь я больше не ревную), у меня было такое чувство, будто меня кто душит, и я должна изо всех сил защищаться. Теперь я рассуждаю иначе. Если я ревную, то это оттого, что я зла. Ревность не от чего-нибудь другого, а от поднимающейся внутренней злобы. Ведь ревность тогда, когда убеждаешься, что любимый человек тебе не принадлежит, что его чувства обращены на другую. И тогда не думают о том, что любимому человеку от этого, вероятно, хорошо, а, напротив, хотят сделать ему зло, чтобы ему было больно. Я раньше смешивала ревность и боль, внутреннюю боль от измены близкого человека. Теперь я понимаю разницу. Если бы ты мне теперь сказал, что полюбил другую, я бы почувствовала боль. Боль можно чувствовать, Иван. Это благородно, дозволительно. Я бы даже от боли могла умереть и, наверное, умерла бы. Но ревность, это — желание сделать зло. И когда я в прошлый раз говорила с тобой, я вовсе не хотела в самом деле с тобой расстаться, но мне нужно было тебя мучить, сделать тебе зло. Теперь этого нет. Ты понял меня?
Она широко раскрытыми глазами посмотрела ему в глаза, и в ее серьезном и деловом личике было теперь что-то новое. Они расстались только в глубокие сумерки, когда тихо в передней звякнул звонок. Он пошел отворять наружную дверь, а она торопливо стала зажигать лампу, но стекло у нее выпало из рук и разбилось. Тогда она выскочила в сени вслед за Иваном Андреевичем и, пользуясь темнотою, крепко прижалась к его плечу, шаловливо смеясь. Ее смех передался и ему.
Вошел с улицы Петр Васильевич и, не видя кто ему отворил дверь, подозрительно спросил:
— Кто здесь?
И так было смешно видеть его, пришедшего с улицы со своими скучными, старыми и непонятными мыслями, что ими обоими овладел смех.
— Очень глупо, — сказал Петр Васильевич, раздражаясь: — Лидка, ты? И кто-то еще.
— Мы! — отвечала она, сдерживая смех, и вдруг кинулась отцу на шею:
— Папка, поздравь меня! Я счастлива! Слышишь?
— Слышу я это, моя дорогая, — сказал он неприятным голосом.
— Фу, какой противный, папка! Иван, мы с тобой должны обидеться.
— Я не кошка, господа, чтобы видеть в темноте.
Под ногами у него хрустнуло стекло от лампы.
— Что это такое? — вскрикнул он.
Но Лидия хохотала, как сумасшедшая.
Вечером, по приходу домой, Иван Андреевич нашел у себя на столе письмо от жены из Харькова. Сначала ему не хотелось его сегодня вскрывать, чтобы не мешать себе пережить счастье сегодняшнего дня, но потом показалось, что именно сегодня же и даже сейчас, немедленно, он должен прочитать это письмо.
Она писала своим ровным, тонким, однообразным почерком:
«Боже, как скучно. Я только сейчас поняла, что такое скука. Скука — это безнадежность. Это гроб, когда еще есть силы жить. Не подумай, что я упрекаю тебя. То, что мы сделали, мы сделали по обоюдному согласию. Но вот что странно: мне кажется, что мы, в сущности, ничего не сделали и ничего сделать не могли. Конечно, мы можем, если нам угодно, не жить вместе, но я все-таки не могу чувствовать того, что я хотела бы и что мне нужно: это — что я отдельное от тебя, переставшее быть для тебя близким существо. Что мне делать, Ваня? Ведь это же ужасно… Я тебя не люблю или, быть может, стараюсь себе добросовестно так говорить, но одних моих слов и моего убеждения оказывается мало. Я не могу начать новой жизни. Или, если хочешь, и могу, но это будет что-то чисто внешнее, грубое. И это оттого, что осталось что-то в прошлом, что мешает мне жить в настоящем.
И когда я размышляю о том, что это такое, то мне кажется, что это во мне говорит еще не умершее чувство к тебе. В сущности, дело обстоит так: или никакого чувства не было, а была случайная встреча, позорное сближение без искры оправдывающего душевного влечения, — тогда все так понятно и просто. Но так ли это, Ваня, так ли? Или, если не так, если все-таки что-то было, то значит, механический разрыв еще не все.
И вот это «не все» я теперь переживаю. Я передумываю все наши слова, самые незначащие события нашей жизни с тобой. Я сужу себя, сужу тебя, я доискиваюсь и ничего не могу найти, кроме ясного понимания, что никакого конца, в сущности, еще нет, а есть только мучительное начало чего-то нового, непереносимого.
Конечно, я бы могла поступить очень просто. Так обыкновенно и делается в подобных случаях, когда люди «вычеркивают» один другого из своей жизни. Скажи, ты этого хотел бы? Ты хотел бы, чтобы нашего прошлого не было для нас обоих совсем? Пусть в этом прошлом было много тяжелого. Пусть! Но ты бы хотел изгладить вместе с темным и то, что было в нем светлого, хорошего, человеческого. Для меня, скажу прямо, это была бы смерть. Признать, что шесть лет жизни с тобой были сплошным недоразумением, ошибкой, какой-то гнусностью — я не могу. А такой разрыв, как наш, означает именно это.
Итак, моя просьба: во имя светлых мгновений этого нашего обоюдного прошлого пиши мне, как складывается твоя новая жизнь. Верь мне, что это для меня не безразлично.
Твой верный друг Серафима».
Иван Андреевич, одновременно растроганный и расстроенный, положил письмо жены на стол и старался определить свое отношение к тому, что она писала. Конечно, зачеркнуть всего своего прошлого он не хотел, да и не мог бы этого сделать. Но чего она, в сущности, от него добивалась?
У него шевельнулось недоброжелательное чувство к жене. К чему этот шаг назад? Ведь все равно над их вторичным сближением поставлен полный крест.
Он решил ответить ей, посоветовавшись с Лидой.