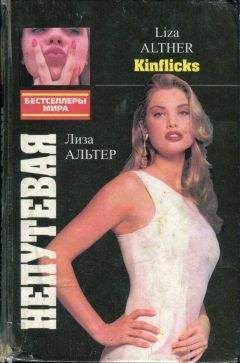Джинни уставилась на мать полными слез глазами. Это хуже, чем быть вышвырнутой: продается само гнездо.
— Возьми с собой эти часы, — сказала мать. — Куда бы ни решила идти.
— Спасибо, — пробормотала Джинни.
— «Тебе мы ослабевшими руками передаем наш факел», — процитировала мать и с печальной улыбкой протянула Джинни фамильные часы.
«Я — как бегун в бесконечной эстафете, — подумала Джинни. — Придет время, и я так же передам их Венди. Хотя… Какая разница, существует или нет женская линия Халл — Бэбкок — Блисс, если сама я умру ужасной смертью?»
Джинни знала, что у матери есть ее вера. Называй ее как хочешь, но это — вера. Не вера сестры Терезы в загробную жизнь, не вера мистера Соломона в бесконечную черную пустоту и забвение. Ее вера другая. Она украсила всю ее жизнь.
Перед уходом Джинни поставила часы на тумбочку, понимая, что матери они нужны сейчас больше, чем кому бы то ни было.
— Нет. Забери их, пожалуйста. И фотографии тоже.
Вечером Джинни позвонила Джиму по последнему номеру, который дала ей мать. Ответил молодой мужской голос:
— Джим уехал.
— Куда?
— Не знаю.
— Это важно. Его мать очень больна. — Молодой человек прикрыл трубку рукой и что-то крикнул. Потом громко сказал: — Говорят, он уехал в Хай-Сьерру.
Она позвонила туда в справочную и получила ответ, что без дополнительных сведений его вряд ли быстро найдут.
Карл ответил, что приедет из Германии сразу, как только сможет. Похоже, в армии, хоть там и масса дел, к смерти относятся с почтением.
На следующий день Джинни сразу заметила, какой пустой стала палата без часов, фотографий и энциклопедии. Пустой и безликой, как все остальные. О том, что здесь лежит ее мать, говорили только вазы с цветами.
Мать молча следила за белками. Джинни не знала, о чем говорить. Энциклопедию дочитала; «Тайные страсти» были бы сейчас совершенно неуместны. Она ждала, что мать скажет ей что-то важное, подведет итог своей жизни и подскажет, что делать дочери. Или расскажет, во что и почему верила всю свою жизнь. Но мать молчала, а заговорить самой казалось кощунством.
В таком подвешенном состоянии прошло несколько дней. Без привычного тиканья часов время словно остановилось. Они определяли его теперь не по часам, а по тому, когда приходила колоть обезболивающее медсестра, когда заглядывал доктор Фогель.
Принесли цветы. Нежный аромат заполнил палату; Джинни внимательно посмотрела на мать. На карточке было написано: «От друга». Цветы были великолепны; надпись растрогала мать… Приносили пресную и однообразную щадящую еду… Они были заключены в палату, как в кокон; время превратилось в пудинг с изюмом и галькой: изюм они с удовольствием съедали, гальку раздраженно выплевывали.
Джинни изредка наведывалась в хижину — покормить птенца, поучить его летать и проверить, нет ли писем от Айры и Венди, но в основном неотлучно была рядом с матерью. Не потому, что мать в ней нуждалась. Наоборот, казалось, ей хочется остаться одной, они не разговаривали. Посторонний сказал бы, что мать расстроена, но Джинни знала, что это не так: она просто погрузилась в свои мысли. Не мать нуждалась в дочери, а дочь — в матери. Она смутно надеялась, что ей перепадут крохи материнской мудрости, обретенной в борьбе со смертью.
Однажды утром Джинни увидела, что мать снова наблюдает за белками своим единственным зрячим глазом. Белка-папа сидела на ветке и грызла семена. Рыжую спинку золотило утреннее солнце. Она клала семечко в свой крошечный ротик и ритмично помахивала пушистым хвостом. Листья вяза слегка трепетали от легкого ветерка.
Из здорового глаза матери катились слезы. Джинни быстро вскочила с кровати и стала бережно вытирать их платком.
— Все будет хорошо, мама, — чуть не плача, пробормотала она.
— Нет, не будет, — прошептала мать.
Джинни не могла видеть, как она плачет. Всю жизнь на лице матери играла вежливая улыбка. Заплакать — значит предать свою веру.
Вошла миссис Чайлдрес — изюминка в их пудинге, — принесла ланцет для анализа. Сегодня она была галькой.
— Ну-ну, дорогая! Не плачьте! Все обойдется, — запричитала она, увидев на лице миссис Бэбкок слезы, и сунула ей в рот термометр.
— Опусти жалюзи, — попросила миссис Бэбкок, когда медсестра, недовольно покачав головой, наконец ушла. — И выбрось цветы.
В этот день миссис Бэбкок завязали и второй глаз, чтобы уменьшить напряжение и головную боль. Она лежала в пустой палате, и было невозможно определить, спит она или бодрствует.
— Мама! — окликнула Джинни. — Давай я тебе почитаю. — Ей казалось, что матери страшно: одной, в темноте…
— Пожалуйста, — тихо ответила мать. — Я хочу остаться одна.
Это прозвучало как пощечина.
— Да-да, конечно, — вскочила Джинни. В конце концов, во время родов ей тоже больше всего хотелось остаться наедине со своей болью; и еще из занятий с Хоком Джинни узнала, что — осознанно или нет — происходит сейчас с ее матерью: оторвавшись от земной суеты, она хочет подготовиться к переходу в измерение, в котором не существует ни времени, ни пространства. Она разорвала все узы, связывающие ее с этим миром, включая любовь и заботу о собственной дочери.
— Но, мама, — с обидой брошенного ребенка воскликнула она, — что мне делать с барахлом в чулане?
Мать молча отвернулась.
Джинни вернулась в хижину и вытащила птенца из корзины. Он радостно запищал и открыл ротик. Она покормила его маленькими шариками из противного фарша, посадила на палец и вышла во двор. Птенец замахал крыльями и, пролетев несколько метров, плавно опустился на землю. Джинни зааплодировала. Еще немного — и он улетит, оставив ее одну.
Ей захотелось плакать. Странно: ее раздражали птенцы, она хотела, чтобы они исчезли, а теперь, по мере приближения дня расставания с последним из них, ее охватила тревога. Справится ли он без нее? Не умрет ли с голоду? Не сожрут ли хищники? Не отвергнут ли другие стрижи? Нет, она еще нужна ему.
Или он — ей? Она посадила птенца на ветку. Да, она нуждается в нем; нуждается в ком-то, о ком нужно заботиться и кто хоть в чем-то заменит ей Венди. Материнский инстинкт не перекроешь, как водопроводный кран. Однажды проснувшись, он остается на всю жизнь и ищет себе объект для заботы. Кто у нее останется, когда птенец улетит?
Джинни неохотно посадила его на подоконник. Окно давно пора вымыть, но если хижина продана, какое ей до этого дело? Сквозь мутное стекло птенец мог видеть двор, сосну, берег пруда в зарослях куджу. И, конечно, взрослых стрижей на трубе — а среди них своих жестоких родителей. Они стрелой пикировали на пруд, поднимая рябь, а маленькая птичья головка поворачивалась вслед за ними. И это вся благодарность за две недели заботы?
Рано утром в палате матери было еще темно.
— Мама, это я, Джинни.
Мать не шелохнулась: то ли спала, то ли ей было все равно. Джинни легла на свободную кровать и задумалась. У матери чертовски крепкие нервы: сначала принесла ее в эту жизнь, а теперь оставляет, отказываясь даже объясниться! И это после недель, проведенных у ее постели терпеливой дочерью, выполнявшей каждый каприз! С каких это пор ей отказывает в заботе и внимании собственная мать? Черт с ними, объяснениями! Что мать может сказать? О чем? О жизни? О смерти? Замужестве и материнстве? Джинни разозлилась, встала с постели и позвала: «Мама!»
Круглое желтое лицо не шевельнулось в ответ. Гнев сменился растерянностью. Джинни снова легла. Господи! Неужели мать бросила ее? Умерла и оставила совсем одну? Ей стало страшно. Забота о матери на какое-то время заполнила ее жизнь, а теперь снова вокруг была пустота. Куда ей идти? Что делать? Как жить после прикосновения смерти? Смерть успокаивает мертвых. Но как жить ей? Живой?
— Мама, — всхлипнула Джинни. Ответа нет.
Она провела с неподвижной, безучастной матерью еще несколько часов и вернулась в хижину. Полуденное солнце слепило и припекало. Громко жужжали пчелы.
Она вытащила из корзинки птенца и посадила на палец. Он пялился на нее черными глазками-бусинками и открывал розовый ротик. Не успела Джинни дойти до двери, как он спрыгнул с ее пальца и, отчаянно махая крыльями, полетел. Она давно ждала этой минуты. Наконец-то птенец научился летать! Жаль, что это произошло не во дворе.
Он облетел гостиную и сел на каминную доску. Она подкралась к нему, но он испуганно запищал. Неужели так быстро забыл, кто заботился о нем столько времени?
В гостиной было прохладно и сумрачно. Птенец повернулся к стеклу, но ударился клювиком и, не успела Джинни поймать его, взмыл под потолок.
Над низким комодом висело зеркало. Птенец устремился к его блестящей поверхности, но испугался собственного отражения, перевернулся в воздухе и отлетел.
Она распахнула дверь. Может, он сообразит, куда лететь? Птенец неистово носился по комнате от мутного окна к блестящему зеркалу и назад. Джинни решилась. Она бросится наперерез, он испугается и свернет к двери. Она вскричала и замахала руками. Птенец испуганно запищал и с размаху врезался в окно.