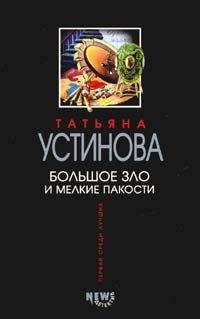Ознакомительная версия.
Татьяна УСТИНОВА
БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ
“Самый верный способ получить ответ — это задать вопрос”.
Ирландская поговорка
Толпа, высыпавшая на школьный двор и разом заполнившая его, была довольно многочисленной. Бывшие выпускники еще что-то договаривали друг другу, курили и хохотали. Жидкий свет уличных фонарей разгонял темноту только с середины асфальтового пятачка, на котором толпился народ, а за чахлыми кустиками живой изгороди, которую с маниакальным упорством пыталась вырастить бессменная “ботаничка”, колыхалась плотная мартовская темень. Школа сверху донизу сияла непривычными для этого часа огнями, но они не разгоняли, а уплотняли окружающую тьму.
Можно работать. Никто ничего не заметит.
Пистолет лежал в ладони легко и удобно. Кожа чувствовала привычные шероховатости металла, и это было как бы знаком того, что работа будет сделана хорошо.
Еще секунд сорок. Пусть с крыльца спустятся все, кто там застрял. Чем больше народу, тем лучше, удобнее.
У ворот много машин. Это тоже неплохо. Декорации должны быть как можно более значительными, тогда они отвлекают на себя внимание, и само действие уже мало кого интересует.
Водитель “Мерседеса”, который был припаркован ближе всех, запустил двигатель, очевидно, заметив хозяина.
Значит, осталось совсем немного.
Раз. Два. Три…
— Ну что? Ты уезжаешь или остаешься?
— Как остаешься? А что, кто-нибудь остается?
— Ну конечно! Только что договаривались в бар пойти, посидеть еще немного. Время-то…
— Ребята, ну что мы решили?
— Дин, ты с нами или уезжаешь?
— Я даже не знаю, я домой собиралась…
— Вовка, а ты?
— А Димка Лазаренко где?.. Он тоже вроде собирался!
…шесть, семь, восемь…
До десяти.
Помешал резкий, неучтенный в плане операции звук.
За спиной затормозила машина, хлопнула дверь, и пришлось оглянуться, чтобы посмотреть, что происходит.
Широкозадая и кургузая “Тойота” остановилась прямо посреди проезжей части. Пассажирская дверь распахнулась, из нее деловито выбирался мальчишка. Кто-то руководил им с водительской стороны, из-за машины не было видно, кто именно.
— Федор, не беги через дорогу! Сначала посмотри! Не спеши, ты слышишь меня или нет?!
— Да я ее уже вижу!
— Где?
— Вон она! Мама! Ма-ам!
— Федор, я здесь!
Так. Этого не должно быть. Никаких детей тут быть не должно. Сейчас он побежит, и вся работа сорвется, а второго такого случая может не представиться.
Сейчас.
Пистолет как будто потяжелел в руке. И стал очень горячим.
— Так что, ребята? Кто куда идет?
— Да мы вот собираемся…
— Дмитрий Юрьевич, спасибо вам большое за то, что вы нашли время…
Выстрел был почти неслышен — резкий хлопок, и только. Расчет был правильный. Никто ничего не понял. И все-таки в последний момент помешал этот чертов мальчишка. Рука дрогнула, не подчиняясь.
— Ма-ам!
Толпа внезапно как-то странно шарахнулась, подалась куда-то, и в ее сердцевине начал закручиваться вопль. И в этот вопль, как в центр смерча, стало затягивать все — смех, говор, урчание двигателей, припадочные моргания фонаря на столбе… И от “Мерседеса” уже кто-то бежал, на ходу доставая пистолет, и вопль перерос в визг, и люди бросились врассыпную, как при бомбежке.
Только одна скрюченная фигура осталась на освещенном асфальтовом пятачке.
Вокруг нее растекалась черная лужа, и ей некуда и незачем было бежать.
* * *
Коридор все сужался, и стены наваливались, мешая дышать. Пыльная и сухая труба, по которой скользила рука, становилась все горячее, и страшно было, что в темноте рука может наткнуться на что-то еще, кроме этой трубы, но невозможно было убрать руку, оторваться от горячей металлической твердости. Тогда не осталось бы ничего, что пока еще сдерживало панику, скрученную в тугую и колкую спираль где-то ниже горла. Если дать ей развернуться, она выхлестнет наружу, ударит, проткнет насквозь, и тогда — все. Конец.
Нужно дойти. Осталось совсем немного. Нет. Это вранье. Никто не знает, много ли еще осталось, но выхода нет, все равно нужно дойти.
А если уже некуда идти? А если стены надвинутся так, что придется ползти, задевая черепом за каменный потолок, а потом уже будет не выбраться? И кончится воздух, и жаркая темнота вползет в голову, в легкие и пожрет то прохладное и свободное, что там еще осталось?! А осталось там совсем немного. Возвращаться нельзя. И нельзя посмотреть назад.
Пот тек по лбу, скатывался за воротник и противно высыхал за ухом.
Нет. Не дойти. Стены все ближе, воздуха все меньше, труба все горячей, волосы скользят по близкому душному потолку.
Сейчас ударит развернувшаяся спираль паники, и тогда — все.
Зачем, зачем?! Как все бессмысленно, и как все глупо!
Плечи одновременно коснулись стен, трясущаяся рука внезапно нащупала что-то странное, явно не металлическое, высохшее, но бывшее когда-то живым, как скальп индейца, и паника наконец ударила.
Крик сгустился из черной духоты, а вовсе не был порождением измученных горящих легких. Крик толкнулся в уши, проткнул их насквозь, ворвался в мозг и затопил его до краев.
Какое-то время крик существовал как будто сам по себе, снаружи, а потом он оборвался.
И тогда стало еще страшнее.
За три часа до происшествия
— И чего тебя туда несет? — Алина качала ногой, облитой черной тканью колготок. Нога была хороша. Колготки — “Омса, серия велюр” — тоже ничего. Офисная юбка — все как полагается, английский кашемир до середины колена — на этот раз была легкомысленно задрана и открывала ровную, розовую даже под чернилами колготок гладкость Алининого бедра. Время от времени, стряхивая пепел с невиданной тонкости пахитоски, Алина с удовольствием посматривала на собственную качающуюся ногу.
— Ну что ты там будешь делать? Встреча одноклассников! За каким чертом они тебе сдались, эти одноклассники! Чего ты там не видала?!
Маруся укладывала волосы феном перед раздвижным трехстворчатым зеркалом и от нетерпения мотала головой, отцепляя от волос постоянно путавшуюся в них щетку. Из одежды на ней были только трусы, а все остальное еще предстояло найти, напялить, оценить, одобрить или отвергнуть.
Нелегкая задача. Особенно когда “до бала” осталось двадцать минут. Впрочем, все как всегда.
— Лучше дай мне лак, — Маруся накрутила на щетку очередную прядь и решила, что ее хорошо бы обильно полить лаком. По задумке прядь должна была изящно спадать, или, как это называла Алина, “струиться”, со лба на висок, и потому ей отводилась особая роль и, соответственно, требовалась особая форма.
Ознакомительная версия.