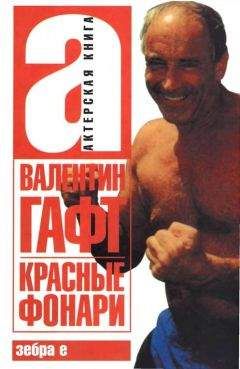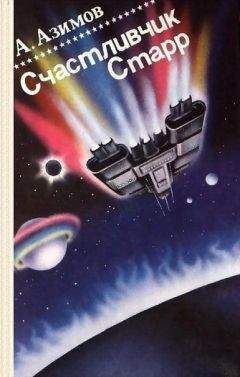Он тряхнул головой. К черту! Мадам Канда сцепила перо в кулаке.
— Нет уж, я его никому не подарю, — весело и твердо сказала она. — Это мое! Я вставлю его себе в летнюю шляпу! Я произведу в Токио фурор!
Слава, с Танечкой на хребте, ускакал, озорно заржав, — жеребец, да и только. Танечка вцеплялась ему в волосы. Может быть, они спят все втроем, вчетвером, впятером, отчего-то зло подумал Митя. Шведские семьи. Таити. Никакого Гогена не надо.
Жена японца подняла к нему лицо. От ее губ одуряюще пахло дорогим ликером.
— Дима, — сказала она, и нежная улыбка взошла на ее губы.
— Митя, — поправил он. — Лучше Митя. Я так привык.
— Митя… — Она задохнулась. — Приходи ко мне. О, нет, никогда не приходи. Уходи отсюда сейчас же. И никогда не появляйся здесь. Я так хочу. Так будет лучше.
Он видел хорошо и ясно, как она испугана, очарована, пьяна.
— Мадам Канда, — сказал он и просунул руки ей под мышки, и сжал ее ребра, и слегка приподнял ее от пола. — Я хотел вас просить. Я сам хотел вас просить. Все это серьезно. Я не проходимец. Я не подлец. Вы не думайте. Я художник. Я хочу вас написать. Обнаженной. Все упадут, умрут. Вы видели когда-нибудь “Венеру перед зеркалом”?.. Многие художники писали. Вернее, пытались написать. Одному Тициану удалось. Я видел только репродукцию. Сталин продал подлинник к чертям собачьим в Америку, из Эрмитажа. Весь Эрмитаж плакал горько. Я напишу вас Венерой перед зеркалом. Это будет черт возьми. Японская Венера. Почему вы так похожи на японку?!
Он притиснул ее к своему животу, такую маленькую, милую. Он боялся ее сломать. В его голове билась одна мысль: картина, картина. Он покажет ей картину. Он всучит ей картину. Не надо будет напрягаться, мыкаться по Москве, искать поганого антиквара. Антиквар обманет. Эта красивая сучоночка — никогда. Она в него уже влипла. Вклеилась, как муха в мед.
Она вскинула руки. Обняла его за шею. Отдернула руки, как от пламени. Отшагнула назад. Ее раскосое личико сделалось надменным, неподвижным, как у японской куклы, ротик сжался в красную брусничину.
— Я русская. Просто я слишком долго жила в Японии. Я привыкла так подкрашиваться. Чтобы там меня за свою принимали.
— Значит, вы притворялись?.. Лицемерили?..
— Мне так нравилось.
Она дышала так часто, взволнованно и хрипло, что он слышал ее дыханье.
— Мадам Канда, — сказал он, не трогая ее больше, не прикасаясь к ней. Он только глядел на нее. Он срывал с нее глазами все ее роскошные блесткие тряпки. — Я вас прошу. Это очень, очень важно. Вы даже не представляете, как. Приходите вы ко мне. У меня дома лежит одна вещь. Одна… картина. Я хочу, чтобы вы ее посмотрели. Это единственная дорогая вещь у меня. Она досталась мне по наследству. Она жила у нас в семье. Ее сохранили мои предки. Она не погибла во всяких наших войнах и революциях. — Он облизнул сухие губы. — Вы увидите ее. Я прошу вас, поглядите на нее. Она стоит того, чтобы на нее поглядели… именно ваши глаза.
— Мои глаза?.. Что могут сделать мои глаза?..
Он сдернул с нее взглядом последние шмотки. Она стояла сейчас перед ним голой. И она понимала это. Она стала пунцовой, даже шея у нее вспыхнула красным огнем.
— Не только ваши глаза, — сказал он прямо, без обиняков. Он не умел долго лебезить. — Ваши деньги, мадам. Я нуждаюсь. Если бы вы купили ее. Это очень дорогая вещь. Слишком дорогая. Музейная. Может быть, это сенсация.
Раскосая куколка, задрав головку, пристально глядела на него. Он глазами раздвинул ей ноги, глазами вошел в нее. Она задышала чаще, зашевелилась, задвигалась чуть заметно взад-вперед, как если бы уже была под ним. Он глазами чувствовал, гладил ее кожу, ощущал жар ее женского пульсирующего нутра. Она маленькая, у нее все там, внутри, маленькое, тесное, жаркое, обнимающее его крепко и больно. Ее рот полуоткрылся, и взглядом он поцеловал ее рот.
— Вы колдун!..
— Я человек. Вы придете?.. Столешников переулок, дом напротив кондитерской, первый подъезд, квартира пять… не пугайтесь, там все на лестнице загажено… бомжи ночуют… и запах такой, кошки, моча — не для ваших ноздрей…
Ничего, понюхаешь, дамочка, весело подумал Митя. Ты привыкла обниматься с Токио, а тут приходится ложиться под грязную Россию. Но это и твоя Россия, мадам Канда. Твоя собственная. Твое родовое поместье, все в мусоре, снегах и дождях, в пустых ящиках и-под водки, ночью валяющихся, как деревянные скелеты, по всему Столешникову, и дворникам их надо старательно собирать и жечь, жечь. И костры встают — до черного холодного неба.
— Я приду, — сказала мадам Канда беззвучно. — Я верю тому, что ты сказал. Я приду. У меня самой дом в Токио как музей. Весь в старинной живописи. Я собираю живопись. Я и правда понимаю в картинах. Как ты догадался. Я полюбила живопись с тех пор, как мы с Игорем расстались. Я боюсь полюбить тебя. Я старше тебя на сто лет, мальчик.
— Не на сто, — сказал он, задыхаясь. Его колено коснулось ее живота, затянутого в блестящую праздничную материю. Едва он коснулся ее, она выгнулась и застонала. — На каких-нибудь двадцать пять, не больше.
Он надрался на той вечерушке у Снегура, и пьяный пошел провожать мадам Канда. От мастерской Игоря до “Арбатской” они шли, как раненый и медсестра с поля боя. Они добрели только до “Праги”. Мадам Канда отцепилась от Мити, легонько ударила его по руке. Ее черные, раскосо подкрашенные глазки сияли под норковой шапочкой, иней высеребрил мех, ее ресницы, воротник драгоценной шубы.
— Не ходи за мной!.. Тут у меня машина на стоянке!.. Я доеду, а ты дойдешь!.. Пешком дойдешь… в милицию тебя не заберут… а то я не выдержу, увезу тебя к себе… Я приду к тебе смотреть картину, слышишь?!..
Он глядел, как она топала каблучками изящных сапожек по свежему снежку.
Милая дама, богатая дама, думал он, доплетясь до Столешникова с грехом пополам, прогрохотав башмаками по коридору в свою камору, увалившись, не разуваясь, на нищенский топчан. Какая разница между бедной женщиной и богатой дамой?.. Да никакой. У всех у них есть глаза, губы, груди, пупок, женская дырочка. Если их раздесть и поставить в солдатский ряд — никакой разницы. Тогда что же дает людям разницу в бытии?.. Деньги?.. Мадам Канда свободнее дышит; свободней говорит; счастливей улыбается; имея владетельного мужа, может свободно развлекаться с такими молодыми люмпенами, как он. Ха. Значит, деньги — это свобода. И ему надо сбросить оковы. Скинуть кандалы. На щиколотках уже кровавые мозоли, но это не беда. Он, освободясь, побежит быстрее лани. Он не будет больше скрести лопатой Петровку. Он не будет больше жечь пустые ящики на углу Тверской. Он не будет просиживать часами на холоду и ветру, на кишащем глупыми и умными людьми Арбате: купите картинку, человечьи скотинки!.. Он не будет, унижаясь, вымаливать трущобной любви у Иезавель. Он, наконец, будет жить. И ему надо сделать только последний, самый важный шаг, чтобы начать жить.