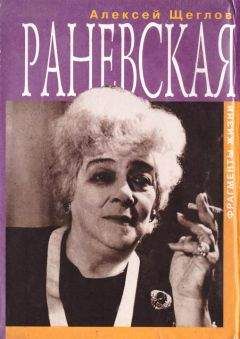Ознакомительная версия.
Кроме того, в ткани романа продернута красная нить детектива, но он так искусно и тщательно завуалирован, что скорее носит мистико-образные черты. Все заговоры, погони и убийства в романе — это символ-знак. Все подчинено главному образу — сильной женщины, измерившей, как лот, и мелководье и дно жизни на Чужбине. Все, и ситуации и судьбы, крутится вокруг единственного образа Мадлен, обладающего невероятной притягательной силой, очарованием дерзости и непокорства и всепобеждающей властью красоты.
И здесь, читая роман, погружаясь в него, идя с его поверхности вглубь, в тайны художества, мы понимаем, что та Красота, что, по Достоевскому, была призвана «спасти мир», в двадцатом веке распахнула такие двери, о которых девятнадцатый даже не помышлял. Роман о девице Мадлен — роман конца века, fin de siecle, хотя бульварные романчики с подобными фабулами и коллизиями появлялись в изобилии на протяжении всего столетия в разных странах, не только в России.
В чем же его принадлежность концу века, эпохальность? Разве эпохальность может быть в бархотке, в оборке и рюшечке, в повторах любовных сцен, где снова, в тысячный раз, обнаженные груди, ноги, поцелуи, объятия et cetera?
Может. Сами того не сознавая, мы, русские, в литературе сейчас создали феномен Расцвета Бульварного Романа. Бульварные романы пишутся пачками, валятся из рога изобилия. Сломать сложившийся стереотип, с виду оставшись в его рамках, в его позолоченном, с виньетками, багете, — задача непростая. Ее, на мой взгляд, мог решить писатель, НЕ ЖИВУЩИЙ в России. Находящийся за ее пределами. Изгнанник, на своей шкуре испытавший все то, что испытала героиня романа. Ведь, вольно или невольно, но каждый художник рисует, пишет себя; писала себя, вне сомнения, и Елена Никольская, надевая маску красавицы Мадлен.
И Никольская, русская парижанка, сломала вышеназванный стереотип очень просто. Она вышла на стихию карнавала. Не просто вышла — вырвалась! Идея смешения верха и низа, явленная еще Бахтиным в его значимых для культуры знаменитых работах, стихия вселенского танца, великого Карнавала, то драматичного, то упоенно-радостного, то гротескного, то эротического, — танца как Мировой Константы, карнавала как Мирового Рефрена, — проходит в романе от первой страницы до последней.
И сама жизнь отсюда предстает в романе как танец: ты попадаешь в ее орбиту, она ведет тебя то в торжественном полонезе, то кружит в безумном любовном вальсе, и сам последний, предсмертный бег Мадлен по ночному парку есть танец — танец жизни, наперекор близкой гибели, наперекор всему.
К тому же это очень французский, парижский роман, заставляющий нас не только вспомнить — тех, кто бывал или живал в Париже — его улицы и площади, его парки и набережные, его карусели, катерки на Сене, неповторимые уголки, но и припомнить великих — Мопассана, дю Гара, Тулуз-Лотрека. Это лотрековский роман; недаром горбатый художник, появляющийся на страницах дважды, — прямой лотрековский портрет. И Елена Никольская, посредством своей прозы, как бы выполняет миссию Тулуз-Лотрека в литературе: она пишет книгу так, будто жила в публичном доме и все это подсмотрела и «присмотрела», как художник. Однако скажем Никольской спасибо и за то, что в свое время ее изгнали из России, и она почерпнула, за время жизни в Париже, такие впечатления, которых не было бы в ее творческом багаже, живи она в России безвыездно.
И сшибка, в романе, как в немыслимом, фантастическом Танце, вызывающей пошлой, эротической бульварности и торжественной музыки русскости: русской истории, русского духа, помогающего выжить на чужбине, русской души, способной на великую любовь (вспомним Сонечку Мармеладову у Достоевского!) — не проходит бесследно для читателя. Ты задумываешься над тем, что есть продажность и что есть любовь. Где находятся границы изображения чувственности? Способна ли духовность любви изменить плотский, тварный мир? На совокуплении и безверии либо на соединении и молитве основаны устои новейшего времени? Время в романе не обозначено; читатель вынужден сам догадываться, что это за время — машины называются «авто», телефон появляется в книге всего однажды, да и то как антураж — он даже не звонит, магнитофонных записей еще нет, и Мадлен, чтобы записать свои разговоры с клиентами, приходится пользоваться ручкой и тетрадкой. Да и определение хронологии не играет большой роли. Грани времени автором стерты сознательно. Писатель ведет нас другой дорогой, гораздо более интересной.
Всякий читатель найдет на этой дороге свое. Тот, кто захочет развлеченья, — развлечется. Тот, кто будет искать приключений, — проследит за ними. Кто ищет отдыха в смаковании любовных эпизодов, останется доволен. Но кто-то пойдет вглубь. Дальше. И откроет то, о чем, возможно, сам автор и его критик, пишущий это предисловие, и не подозревают.
Ознакомительная версия.