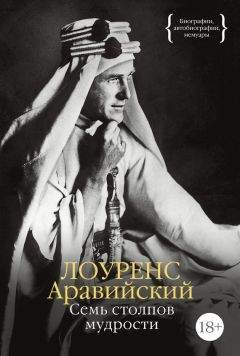Да, увиденное потрясло Конни до самых сокровенных глубин и там запечатлелось. А разумом она пыталась отнестись ко всему иронично. Надо же, баню устроил во дворе! И мыло, конечно, самое дешевое — желтое, пахучее. А за издевкой появилась досада: с какой стати должна она лицезреть чей-то немудреный туалет?
Пройдя немного по лесу, она присела на пень. Мысли путались. Очевидно одно: распоряжение Клиффорда нужно передать, и ничто ее не остановит. Подождет немного — пусть егерь оденется, только бы не ушел. Судя по всему, он куда-то собирался.
И Конни побрела назад, чутко вслушиваясь. Вот и дом, ничто не изменилось. Залаяла собака. Конни постучала, сердце, вопреки воле, едва не выпрыгивало из груди.
Послышались легкие шаги. Очевидно, егерь спускался со второго этажа. Дверь распахнулась так неожиданно, что Конни вздрогнула. Егерь и сам, видно, смутился, но тотчас же на губах заиграла усмешка.
— А, леди Чаттерли! Проходите, милости прошу!
Говорил и держался он естественно и просто. Конни переступила порог маленькой мрачноватой комнаты.
— Мне всего лишь нужно передать вам поручение сэра Клиффорда, — проговорила она по обыкновению тихо, чуть с придыханием.
А мужчина стоял рядом и смотрел. Голубые глаза его примечали все, Конни даже пришлось отвернуть лицо. «Какая милая женщина, застенчивость красит ее еще больше», — подумал он и с ходу взял инициативу в свои руки.
— Может, присядете? — спросил он, не надеясь на согласие. Дверь оставалась открытой.
— Нет, спасибо. Сэр Клиффорд просил… — и она передала мужнино поручение, безотчетно глядя ему прямо в глаза. А в них столько тепла, столько доброты, чудесной, теплой доброты, обращенной к женщине просто и естественно.
— Понял, ваша милость, сейчас же займусь.
И враз все в нем переменилось — он посуровел и отдалился, будто сокрылся за стеклянной стеной. Пора уходить, но Конни мешкала — беспокоен был ее дух. Она оглядела чистую, уютную, хотя и мрачноватую маленькую гостиную.
— Вы здесь совсем один живете? — спросила она.
— Совсем один, ваша милость.
— А матушка…
— Она — в деревне, у нее там дом.
— И девочка с ней?
— И девочка.
И простое усталое лицо тронула Непонятная усмешка. Переменчивое лицо, обманчивое лицо.
Увидев, что Конни недоумевает, он пояснил.
— Не думайте, по субботам мать приходит, прибирает в доме. Со всем остальным сам управляюсь.
Еще раз Конни взглянула на него. Он улыбался глазами, чуть насмешливо, но в голубых озерцах все же осталась теплая доброта. Конни не переставала ему удивляться. Вот он стоит перед ней, в брюках, в шерстяной рубашке, при галстуке, мягкие волосы еще не высохли, лицо бледное и усталое. Угасла улыбка в глазах, но теплота осталась, и проглянуло за ней страдание — трудная, видно, выпала этому человеку доля. Но вот взгляд подернулся дымкой отчуждения — словно и не беседовал он только что с милой и приятной женщиной.
А Конни хотелось так много ему сказать, но она сдержалась. Лишь взглянула на него и обронила:
— Надеюсь, я не очень помешала вам?
Чуть сощурились глаза в едва приметной усмешке.
— Разве что причесываться. Простите, я без пиджака, но я и не предполагал, кто ко мне постучит. Никто никогда вообще не стучит, а любой непривычный звук пугает.
Он пошел по тропинке впереди, чтобы открыть калитку. Без неуклюжей плисовой куртки, в одной рубашке, он, как и получасом раньше, со спины показался ей худым и чуть сутулым. Но поравнявшись с ним, она почуяла его молодость и задор — и в непокорных светлых вихрах, и в скором взгляде. Лет тридцать семь, тридцать восемь, не больше.
Она зашагала к лесу, чувствуя, что он смотрит вслед. Растревожил он ей душу, против ее воли растревожил.
А егерь, закрывая за собой дверь в доме, думал: «Как же она хороша, как безыскусна! Ей это и самой невдомек».
Конни надивиться не могла на этого человека: не похож он на егеря; вообще на обычного работягу не похож, хотя с местным людом что-то роднило его. Но что-то и выделяло.
— Этот егерь, Меллорс, прелюбопытнейший тип, — сказала она Клиффорду, — прямо как настоящий джентльмен.
— «Прямо как»? — усмехнулся Клиффорд. — Я до сих пор не замечал.
— Нет, что-то в нем есть, — не сдавалась Конни.
— Он, конечно, славный малый, но я плохо его знаю. Он год как из армии, да и года-то нет. В Индии служил, если не ошибаюсь. Может, там-то и поднабрался манер. Состоял небось при офицере, вот и пообтесался. С солдатами такое случается. Но пользы никакой. Приезжают домой, и все возвращается на круги своя.
Конни пристально посмотрела на Клиффорда и задумалась. Исконно мужнина черта: острое неприятие любого человека из низших сословий, кто пытается встать на ступеньку выше. Черта, присущая всей нынешней знати.
— И все-таки что-то в нем есть, — настаивала Конни.
— По правде говоря, не вижу! Не замечал! — И Клиффорд взглянул на нее с любопытством, тревогой и даже подозрением. И она почувствовала: нет, не скажет он ей всей правды. Как не скажет и себе. Ненавистен ему даже намек на чью-то особенность, исключительность. Все должны быть либо на его уровне, либо ниже.
Да, теперешние мужчины скупы на чувства и жалки. Боятся чувств, боятся жизни!
Конни вошла к себе в спальню, разделась и стала разглядывать себя в огромном зеркале — сколько лет не делала она подобного. Она и сама не знала, что пыталась найти или увидеть в своем отражении, только поставила лампу так, чтобы полностью оказаться на свету.
И ей подумалось — уже в который раз! — сколь хрупко, беззащитно и жалко нагое человеческое тело. Есть в нем какая-то незавершенность.
Говорили, что у нее неплохая фигура, но не по теперешним меркам — слишком округло-женственная, а не новомодная угловато-мальчишечья. Невысокого роста, крепко сбитая, коренастая, как шотландка. Каждое движение исполнено неспешной грации и неги, что часто и принимают за красоту. Кожа с приятной смуглинкой, плечи и бедра округлы и покойны. Наливаться бы этому телу, точно яблоку, ан нет!
Как переспелый плод, теряло оно упругость, кожа — шелковистость. Недостало этому плоду солнца и тепла, оттого и цветом тускл, и соком скуден.
Женственность принесла этому телу лишь разочарование, а мальчишески угловатым, легким, почти прозрачным уже не стать. Вот и потускнело ее тело.
Маленькие неразвитые грудки печально понурились незрелыми грушами. Живот утратил девичью упругую округлость и матовый отлив — с тех пор, как рассталась она со своим немецким другом — уж он-то давал ей любовь плотскую. В ту пору ее молодая плоть жила ожиданием, и неповторима была каждая черточка в облике. Сейчас же живот сделался плоским, дряблым. Бедра, некогда верткие, отливавшие матовой белизной, тоже начали терять женственную округлость, пропала их крутизна: зачем же они ей?