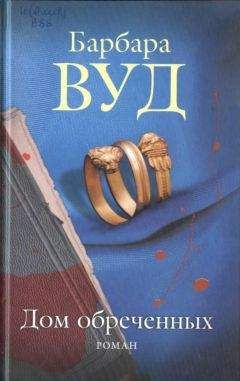— Войдите, — устало сказала я.
В дверях показалась голова дяди Генри.
— Ты не спишь?
— Нет. Пожалуйста, входите.
Он зашел с таинственным видом, словно не хотел, чтобы кто-то знал, что он здесь. Мягко ступая по ковру, он посмотрел сначала влево, потом вправо и произнес шепотом:
— Я помешал тебе?
Я взглянула на письмо и прикрыла его руками.
— Нисколько. Рада вас видеть в любое время, дядя Генри. Может быть, нам сесть у камина?
— Да, конечно.
Я последовала за ним к софе, озадаченная его странным поведением. Знакомая атмосфера обреченности по-прежнему окружала его, но я уже начинала к этому привыкать. Было еще что-то очень необычное в его персоне, что я не могла определить, но остававшееся неизменным. Он медлил, явно о чем-то думая и окидывая комнату беглым взглядом.
— Что случилось, дядя Генри?
Наконец он повернул ко мне лицо, и тогда я увидела суженные зрачки, остекленевшие глаза. Мой дядя находился под воздействием опиума.
— Вчера вечером ты сильно расстроила свою кузину Марту. Более того, твои слова обеспокоили всех нас. Лейла, ты становишься неблагоразумной, и я должен предостеречь тебя.
— Предостеречь меня?
— Не рискуй заходить в области, которые тебя не касаются.
— Которые меня не касаются! Гибель отца и брата! Вы считаете, что это меня не касается?
— Это случилось двадцать лет назад, зайка!
— Неважно, вчера или двадцать лет назад, для меня это одно и то же. Мой долг по отношению к ним — защитить их доброе имя.
— Но это бесполезно, Лейла! То, что ты пытаешься вспомнить, только ужасный кошмар. Поверь мне, если однажды ты вспомнишь то, что видела в роще, ты поймешь, что мы говорили тебе правду.
— Но если это так, дядя, то почему вы все так беспокоитесь о том, многое ли я вспомнила? Почему вы все, кажется, боитесь того, что я вспомню?
— Только ради тебя самой.
— И все, чего вы мне желаете, это чтобы я вернулась в Лондон и вышла замуж за Эдварда. Верно?
Дядя Генри не отвечал. Вместо этого его глаза шныряли по комнате, безостановочно, изучающе. Я гадала, зачем он принял лауданум[4].
— Или, — тут я понизила голос, — вы не желаете, чтобы я вообще выходила замуж?
Он повернулся ко мне и схватил мои руки. Его ладони были холодными и влажными.
— Лейла, если ты когда-нибудь выйдешь замуж, то передашь дальше болезнь Пембертонов!
— Ее не существует, дядя Генри. Как можете вы верить в миф, который не имеет под собой основы?
— Потому что болезнь есть!
— Я отказываюсь в это верить!
Лицо дяди Генри помрачнело.
— Тебе не стоило сюда возвращаться, Лейла…
— Ну что ж, я вернулась, и этого уже не поправить. И я намерена пойти дальше и вернуть себе память. Какой бы ужасной она ни была, но она моя по праву.
— Этого может никогда не случиться, Лейла.
— Случится. Я знаю, что случится.
— Никто из нас не станет тебе помогать.
Как хорошо я это знала! И в первую очередь никогда не станет помогать тетя Анна. Колин теперь против меня. Марта обижена. А Тео — какова его позиция? Придется возвращать себе память, рассчитывая на собственные усилия.
— Как же ты собираешься пробудить воспоминания, которые крепко заперты у тебя в сознании и не хотят выходить наружу?
Я взглянула на дядю Генри со всем самообладанием, на какое только была способна.
— Я сделаю это, отправившись завтра в рощу.
Он сидел, долгое время ошеломленно уставившись на меня, и я уже спрашивала себя, слышал ли он. Наконец дядя пришел в себя:
— Ты не должна ходить в рощу, Лейла. Никогда.
Как, должно быть, он похож на моего отца — лицом, движениями, звуком голоса. При обычных обстоятельствах я бы любила этого человека с его прекрасными седыми волосами и элегантным костюмом, у которого такие же, как у меня, глаза и подбородок. Но теперь это уже невозможно до тех пор, пока я опасаюсь его, испытывая ужас перед тем, насколько далеко он может зайти, защищая интересы своего семейства. Дядя Генри никогда не стал бы мне вредить, в этом я была уверена, но его противодействие могло принести мне много неприятностей.
— Я пойду туда, потому что должна это сделать.
— Но зачем? — вдруг взорвался он. — Для чего?
— Мне надо вспомнить.
— Я знаю, что ты замышляешь, Лейла. Я знаю, что будет потом. Объявив своего отца невиновным, ты переложишь вину на остальных членов этого дома. Ты обвиняешь Пембертонов в убийстве!
— Мой отец был Пембертоном, и вы все легко обвинили его!
— Это другое. Он был одержим лихорадкой и бредом.
— Как это удобно для всех вас. Но я в это не верю.
— А мотивы? Каковы мотивы? Твои намеки Марте на то, что среди нас идет ожесточенная вражда из-за денег, просто отвратительны. Как это низко и вульгарно с твоей стороны!
Меня задело за живое. Для него объявить моего беззащитного отца убийцей было благородным и справедливым. Но, обвинив одного из них в том же самом, я опускалась до вульгарности.
— Другого пути нет. Я должна завтра пойти в рощу.
Дядя Генри, казалось, ушел в себя. Я не могла представить, как много он принял лауданума или почему он его принял, но я знала, что это мощный анальгетик. Он положил ладонь на лоб.
— Это еще хуже, чем раньше.
— Что хуже, дядя?
— Головная боль. О, Лейла, какая головная боль, какой отвратительной может она быть!
Я смотрела на дядю в легкой тревоге.
— Сколько лауданума вы приняли, дядя?
— Гм? — Его взгляд блуждал. Он не способен был сфокусироваться. — Анна дает мне его с чаем. Теперь его нужно гораздо больше. Этот проклятый ветер создает ужасные сквозняки по всему дому, от этого и головные боли.
— Понимаю… Скажите мне, дядя Генри, а мой отец страдал от них?
— От чего? О, мне пора идти. Мама всегда желает видеть меня перед тем, как отойти ко сну.
— Бабушка может немного подождать.
Тут он усмехнулся.
— Как мало ты еще знаешь, зайка. Никто не смеет заставлять ждать Абигайль Пембертон! — Он поднялся на неустойчивых ногах и машинально опустил ладонь мне на плечо. — Лейла, возвращайся в Лондон, пока можешь.
— Я так не думаю, дядя. Не сейчас…
Когда он обрел равновесие, его глаза вновь обшарили комнату, и я увидела, как они остановились на моем неоконченном письме Эдварду.
— Пишешь кому-то?
— Нет, — солгала я, — просто набрасываю некоторые мысли для дневника. Ветер вдохновляет меня…
— А мне он приносит проклятые боли! — Дядя Генри вдруг стал робким. — Прости мне мои выражения, зайка, но моя голова раскалывается. Мы сможем еще поговорить утром, если ты будешь чувствовать себя лучше.