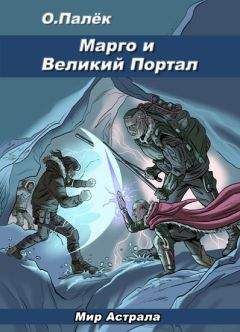Он поцеловал ее, пожелав спокойной ночи, но она никак не могла уснуть, и, хотя звук, пришедший к ней из сна, не повторился (по крайней мере, в ту ночь), Рут знала: в этом доме что-то живет за стенами. Ее мертвые братья не ограничивали сферу своего обитания одними фотографиями. Они двигались по дому, и их незримое присутствие можно было обнаружить самыми разными способами.
В ту ночь, еще до того, как раздался стук пишущей машинки, Рут знала, что отец не спит, что он еще не ложился в кровать. Сначала она слушала, как он чистит зубы, потом — как он одевается: вжик — вжикнула его молния, зашлепали шлепанцы.
— Папа? — позвала она.
— Да, Рути.
— Я хочу водички.
На самом деле она не хотела пить, но ее всегда завораживало, как отец пропускает воду, пока не пойдет холодная. Мать всегда сразу же наполняла стакан, и вода была теплой и пахла ржавчиной.
— Не пей много — описаешься, — говорил ей отец, а мать позволяла пить, сколько ее душе было угодно, иногда даже не смотрела, как пьет дочь.
Возвращая стакан отцу, Рут сказала отцу:
— Расскажи мне о Томасе и Тимоти.
Отец вздохнул. В течение последних шести месяцев Рут демонстрировала неиссякающий интерес к теме смерти, что, впрочем, было неудивительно. Рут научилась различать Тимоти и Томаса на фотографиях, когда ей было три года, вот только в их самых пеленочных фотографиях она путалась. Мать и отец рассказывали Рут, как и когда была сделана каждая из фотографий: кто снимал — мамочка или папочка, плакал ли Томас или Тимоти. Но представление о том, что мальчики мертвы, было для нее новым, и она только недавно попыталась осознать его.
— Скажи мне, — повторила она, обращаясь к отцу. — Они умерли?
— Да, Рути.
— А умерли, это что значит — сломались?
— Да… их тела сломались, — сказал Тед.
— И они теперь под землей?
— Их тела под землей, да.
— Но они не совсем исчезли? — спросила Рут.
— Понимаешь, пока мы о них помним — не совсем. Они остаются в наших мыслях и наших сердцах, — сказал ее отец.
— Они вроде как внутри нас? — спросила Рут.
— Так.
Отец предпочел оставить эту тему, но он и так сказал гораздо больше, чем Рут слыхала от матери — та никогда не говорила «умерли». И ни Тед, ни Марион Коул не были людьми религиозными. У них в запасе не было необходимых подробностей для концепции рая, хотя каждый из них в других разговорах с Рут на эту тему и упоминал некие таинственные небеса и звезды; они хотели этим сказать, что какая-то часть мальчиков существовала где-то отдельно от их сломанных тел, лежащих под землей.
— Ну, — сказала Рут, — тогда скажи мне, что значит «умерли».
— Рути, послушай меня…
— Слушаю, — сказала Рут.
— Вот когда ты смотришь на фотографии Томаса и Тимоти, ты вспоминаешь истории о том, что они делали? — спросил ее отец. — Я хочу сказать — на фотографиях. Ты помнишь, что они делали на фотографиях?
— Да, — ответила Рут, хотя она и не была уверена, что может вспомнить, что они делали на всех фотографиях.
— Ну, так вот… Томас и Тимоти живы в твоем воображении, — сказал ей отец. — Когда человек умирает, когда его тело ломается, это означает, что мы больше не можем видеть его тела — его тело исчезает.
— Его кладут под землю, — поправила его Рут.
— Мы больше не можем видеть Томаса и Тимоти, — гнул свое отец, — но они остались в нашем воображении. Думая о них, мы их видим в воображении.
— Они ушли из этого мира, — сказала Рут. (По большей части она повторяла то, что слышала раньше.) — Они теперь в другом мире?
— Да, Рути.
— И я тоже умру? — спросила четырехлетняя Рут. — Я тоже буду вся сломана?
— Ну, это случится очень-очень нескоро! — сказал отец. — До тебя должен сломаться я, но и это еще произойдет очень-очень нескоро.
— Очень-очень нескоро? — повторила девочка.
— Я тебе обещаю, Рути.
— Ну, хорошо, — сказала Рут.
Такого рода разговор происходил между ними чуть не каждый день. Подобные же разговоры происходили у Рут и с матерью, только они были короче. Как-то раз, когда Рут сказала отцу, что если она думает о Томасе и Тимоти, то ей становится грустно, отец признался, что и ему грустно от этих мыслей.
Рут тогда сказала:
— Но маме еще грустнее.
— Да… грустнее, — сказал тогда Тед.
Так Рут и лежала без сна в доме, за стенами которого что-то водилось, что-то большее, чем мышь, и она прислушалась к единственному звуку, которому удавалось успокоить ее, хотя от этого же звука она впадала в меланхолию. Это было еще до того, как она узнала, что такое «меланхолия». Это был звук пишущей машинки — звук историй. Став писателем, Рут так никогда и не перешла на компьютер — она либо писала от руки, либо печатала на машинке, которая производила самый старый звук из всех опробованных ею печатных машинок.
Тогда (в то лето 1958 года) она не знала, что ее отец начинает писать историю, которая станет ее любимой. Он работал над ней все лето, и она стала единственным литературным произведением, созданию которого «способствовал» будущий секретарь Теда — Эдди О'Хара. И хотя ни одна из детских книг Теда Коула не знала такого коммерческого успеха и международной славы, как «Мышь за стеной», книга, начатая Тедом той ночью, стала самой любимой для Рут. Называлась она, конечно, «Шум — словно кто-то старается не шуметь», и для Рут она всегда была особенной, потому что именно Рут вдохновила отца на ее создание.
Детские книги Теда Коула невозможно было классифицировать по возрастным категориям. «Мышь за стеной» рекламировалась как книга для чтения детям в возрасте от четырех до шести лет; книга эта имела успех на рынке, как и следующие книги Теда. Но, скажем, двенадцатилетние часто заново перечитывали Теда Коула. Эти более умудренные читатели нередко писали автору письма, в которых говорилось, что они раньше считали его детским писателем, но потом обнаружили в его книгах глубинные смыслы. Эти письма, демонстрировавшие разную степень владения или невладения пером и грамотностью, служили обоями в мастерской Теда.
Он сам называл это «мастерской», и позднее Рут спрашивала себя, уж не выражало ли это мнение ее отца о себе с большей резкостью, чем это казалось тогда ей, ребенку. Эта комната никогда не называлась «студией», потому что ее отец давно уже перестал считать свои книги произведениями искусства; в то же время «мастерская» — это звучало более претенциозно, чем «кабинет»: этим словом Тед тоже никогда не пользовался, потому что считал свою работу творческой. Он обижался, слыша распространенное мнение, что его книги — всего лишь бизнес. Позднее Рут поняла, что отец более ценил себя как рисовальщика, чем как писателя, хотя никто не мог бы сказать, что успех или слава «Мыши за стеной» и других детских книг Коула определялись иллюстрациями.
По сравнению с той магией, которая, может, и таилась в самих историях, неизменно страшных, кратких, написанных ясным языком, иллюстрации, на взгляд любого издателя, были рудиментарными и немногочисленными. И тем не менее читатели Теда, эти миллионы детей от четырех до четырнадцати, а иногда и чуть старше (не говоря уже о молодых матерях, которые были главными покупателями книг Теда Коула), никогда не жаловались. Эти читатели никогда бы не догадались, что отец Рут проводил гораздо больше времени за рисованием, чем за писанием, — для каждой иллюстрации, появлявшейся в книге, делались сотни набросков. Что же касается его рассказов, составивших ему славу… ну, обычно-то Рут слышала стук пишущей машинки только по ночам.
Представьте себе бедного Эдди О'Хару. В 1958 году летним июньским утром он стоял около причалов Пиквод-авеню в Нью-Лондоне, штат Коннектикут, в ожидании парома, который должен был доставить его в Ориент-Пойнт на Лонг-Айленде. Эдди думал о своей будущей работе в качестве секретаря писателя, даже не подозревая, что ему в этой роли практически не придется пользоваться авторучкой. (О карьере художника Эдди и не думал.)
Говорилось, что Тед Коул бросил Гарвард и поступил в не очень престижную художественную школу; на самом деле это была дизайнерская школа, куда поступали ребята средних способностей и скромных амбиций, пределом мечтаний считавшие карьеру в промышленности. Ни травление, ни литография его не интересовали — он предпочитал одно рисование. Он говорил, что любимый его цвет — темнота.
Для Рут отец всегда ассоциировался с карандашами и ластиками. На его руках вечно были черные и серые пятна, а на одежде — катыши ластика. Но еще более постоянным признаком Теда (даже если он только что принял ванну и оделся во все свежее) были пальцы, запачканные чернилами. Цвет чернил менялся от книги к книге.
— Это черная книга или коричневая? — бывало, спрашивала у отца Рут.