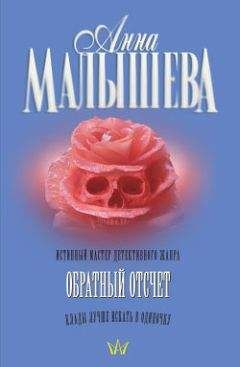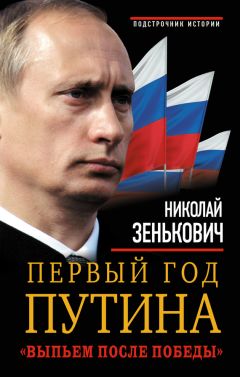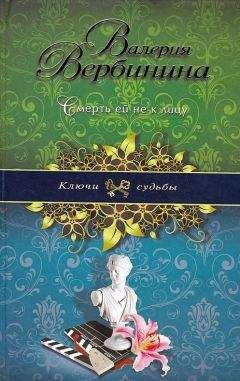Ознакомительная версия.
– Не миновать стать, пташечка, что тебя эти псы испортили, когда тебе разум затмило, а ты, горькая, и не почуяла. Где там – от такого немудрено вовсе бесноватой сделаться… Вот горе-то тебе, теперь понесешь вдвое! Тя-ажкую ношу понесешь, и помочь снести некому!
Она поднимает ее, умывает ледяной водой и тащит к общей молитве. Три часа Даша лежит на ледяном полу, не чувствуя холода, раскинув руки крестом, как в ту ночь, когда умерла ее мать. Молится Даша вместе со всеми, но о своем – умереть бы поскорее, чтобы не принять перед смертью еще горшего позора и поношения. Ей приходят на ум страшные истории о соблудивших инокинях, которых смутил лукавый, вспоминаются страшные истязания, к которым приговаривает их монастырский устав. Попасть в каменную яму, на черствый хлеб и тухлую воду, быть посаженной на цепь, сгнить заживо, не видя солнца, – вот что ее ждет, вот как она умрет, не дожив и до шестнадцати лет. Даша сдавленно стонет и бьется лбом в каменный пол, обращая на себя внимание других инокинь, думающих, что она молится за упокой душ своих опальных родителей.
Между заутреней и обедней Руфина несколько раз встречается взглядом с Дашей, но они не говорят между собой ни слова – их опоздание и так замечено. Молчат и во время трапезы, молчат, сидя рядом и вышивая край плащаницы «Положение во гроб» – чей-то богатый заказ, один из тех, которыми кормится монастырь. Пальцы у Даши одеревенели, она путает шелка и часто упускает иголку. Временами на нее «накатывает», и тогда хочется вскочить, закричать нечеловеческим голосом, во всем признаться и покориться своей страшной судьбе… Но сухое молчание Руфины, одно ее присутствие удерживает Дашу. Поговорить им удается только поздним вечером, незадолго до полуночи, в своей келье.
– Бежать надо, девка, – говорит Руфина, усадив к себе на лежанку оцепеневшую от горя Дашу. – Или сгинешь тут, пропадешь за чужие грехи. Я-то тебе поверила, да другие и слушать не станут. Скажут – после пострижения согрешила, да еще чего-чего не наскажут… У нас тут киновия – житие общее, и монахи тут рядом, греха много, присмотра мало. Игуменья наша сердится больше для вида, а нужно ей лишь, чтобы с виду благоприлично было да вклады не уменьшались. Узнает про твое брюхо – в такую щель замурует, что и муха к тебе не пролетит, весточки не пронесет. Беги, пока можешь!
– Поймают – страх думать… пытать будут, казнят! – лепечет Даша.
– А ну – не поймают? Здесь тебе так и так пропадать, – увещевает ее старуха. – Беги, говорю, схоронись где Бог укажет, а там… Все в Его власти. Я и сама бежать думала, пока молода была, да не решилась… Так, скитаючись по монастырям, и засохла, а ведь цвела пышнее тебя! Ко мне большие князья засылали сродственниц – хоть краем глаза повидать, засмотреть да сговориться, но матушка берегла меня, всем отказывала… А ведь будь я замужем, не постриг бы меня покойный батюшка Иоанна Васильевича вместе со своей первой женою Соломонидой Юрьевной! Как о том помыслю – согрешу. Господи, думаю, да ведай я такую свою долю – за кривого пошла бы охотою, за рябого да горбатого, за дурака дурацкаго сына – не взял бы честью, пошла б увозом – только б не в монастырь!
От воспоминаний на восковое, бескровное лицо старой постницы ложится легкий румянец. Даша, затаив дыхание, слушает ее историю – короткую и простую. Руфина, в миру Антонина Макаровна Патрикеева, была пострижена в восемнадцать лет, заодно с ближними боярынями первой жены царя Василия Иоанновича. Царь прожил с Соломонидой Сабуровой двадцать лет, но брак их был бездетен. Не помогали супругам ни поездки по монастырям, ни богатые вклады, ни волхвование, к которому в отчаянии прибегала стареющая женщина. Все было напрасно, и по приговору Боярской думы Соломониду, как бесплодную смоковницу, вырвали из царской семьи и под именем Софии постригли в Покровский Суздальский монастырь.
– Да и то, милая, когда митрополит обрезал ей власы и возложил монашеский куколь, она, сердешная, сорвала его и ногами топтала, а ближний царский боярин Иван Юрьевич Шигона-Поджогин в Божьем храме плетью ее бил, и только тогда утихла и примирилась. А царь Василий Иоаннович, двух месяцев не прошло, на той, на Глинской женился. А ведь сказано – кто отпустит жену свою и оженится другою, тот прелюбы творит! В блуде был зачат царь Иоанн, отсюда и все беды наши!
У Даши постукивают зубы – она не может слышать имени царя, чтобы ее не окатило смертельным ужасом. День материной пытки и разорения родного дома снова встает перед нею, и снова она видит лицо царя – бледное, изможденное, видит его пылающие светлые глаза, от одного взгляда которых замирает сердце – ибо нет в них ничего человеческого. Она поднимает руку, чтобы перекреститься и отогнать видение, но рука бессильно падает на колени.
– Как же бежать? – мучительно спрашивает она. – Куда?
– Как – покажу, выведу, это нетрудно, – утешает Руфина. – Одежу тебе раздобуду. Тут у одной вдовы-купчихи дочь от горячки померла – примерно с тебя ростом и телом стройна, так мать ее одежу нам для раздачи бедным проходящим пожертвовала. Возьму что попроще, да и денег немного добуду. Греха в том нет – сейчас бедней тебя во всей обители не сыщешь. А вот куда пойдешь? Родня-то вся в опале?
– Не знаю, – тоскливо отвечает Даша. – Да мне к ним нельзя, там искать будут. Ведь будут искать, коли убегу?
– Поищут и бросят! – снова успокаивает ее Руфина. – А ты вот что – в сам-деле, к родным не ходи, спрячься у чужих. За деньги сыщешь бабку, она тебе плод стравит. А нет – родишь, на паперть подкинешь. Как тебе жить в миру – сама решай, девка. Я-то сорок шестой год в монастыре, все перезабыла.
На колокольне ударяют ко всенощной, обе заговорщицы вздрагивают, будто застигнутые врасплох, и, не глядя друг на друга, отправляются в церковь. Даша смотрит на знакомые образа мутным взглядом, ничего не слышит, едва замечает, как крестится, опускается на колени, встает. Все это она проделывает не думая, по привычке, и мысли ее на этот раз далеки от молитвы. Ее душит стыд, обуревает злоба на своего неизвестного насильника и, страшно сказать, на самого царя, мучают страхи перед неизвестным будущим, позорной беременностью, бесприютными родами… Она не знает, что ее родня по матери, многочисленные князья Вяземские, хоть и удалены с опричного двора, но не лишены своих владений в Романовском уезде. Напротив – ее страшит одна мысль о том, чтобы открыть кому-то свое настоящее имя. И Руфина, с которой она советуется каждую свободную минуту, говорит то же – назваться купеческой женой или вдовой, затеряться в Москве, в посаде.
Ознакомительная версия.