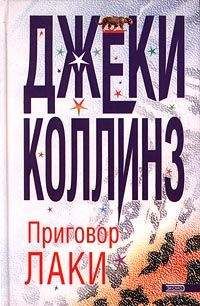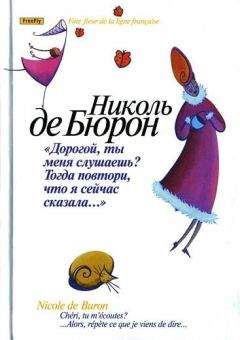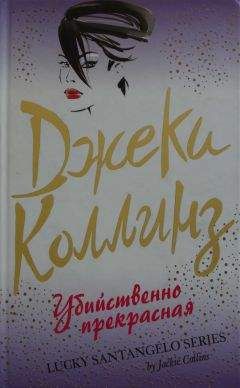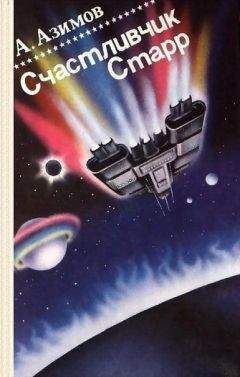Его другого приятеля, Кассари, прозвали Розовым Бананом. Высокого роста парень, любивший похвастать своей штукой, действительно напоминавшей крупный розовый банан.
— Засадил? — поинтересовался Банан.
— Нет, меня отшили, — усмехнулся в ответ Джино.
— Трепло, — пробормотал Катто.
Уж они-то хорошо знали, что Джино и дня не может прожить без того, чтобы не потрудиться своим тараном над какой-нибудь девчонкой.
— Так чем же мы займемся вечером? — обратился к ним с вопросом Джино.
Парни заговорили между собой, предлагая то одно, то другое, затем, повернувшись к своему кумиру, выдали обычное:
— Как скажешь.
— Я скажу, что нам нужно развлечься.
Близился вечер пятницы, Джино только что выполнил свой долг и чувствовал себя превосходно. И совершенно не важно, что в кармане у него всего десять центов, что подошвы ботинок протерты до дыр, что люди, у которых он вынужден жить, и вида его не выносят. Ему хотелось развлечений. И он имел на них право, разве нет?
Не спеша они направились в сторону центра, напоминая со стороны сбившихся в стаю крыс. Возглавлял компанию Джино. Он по-хозяйски вышагивал впереди, чуть раскачиваясь при ходьбе из стороны в сторону. Ввосьмером они заполнили всю ширину тротуара, свистом и выкриками привлекая к себе внимание проходящих мимо девушек.
— Эй, красавица, не хочешь познакомиться с моим красавцем?
— Ого, милашка, а ведь меня могут посадить за то, о чем я сейчас думаю!
Джино первым заметил машину: длинное, изящное белое чудо, брошенное на стоянке — он едва верил глазам — с ключами! Потребовалось всего несколько секунд на то, чтобы кое-как забиться в автомобиль, и сидевший, естественно, за рулем Джино резко снял машину с места. Бросив школу, весь последний месяц он проработал автомехаником и кос в чем уже научился разбираться. Внезапно он понял, что умение править пришло к нему само по себе, и, запнувшись пару раз при переключении скоростей, дорогу до Кони-Айленда он проделал без каких-либо затруднений.
Эспланада оказалась пустынной, со стороны моря дул пронизывающий ледяной ветер. Но это никого не волновало. С воплями и хохотом они бежали вдоль пляжа, швыряя друг в друга песком.
Для патрульного полицейского, терпеливо дожидавшегося возле угнанного автомобиля с револьвером в руке, они представляли собой добычу легкую и бесхитростную.
Так Джино впервые в жизни влип в неприятности с полицией. Поскольку за рулем сидел он — и он с готовностью признал это сразу же, — основная тяжесть ответственности падала именно на его плечи. Ему дали год, который он должен был провести в нью-йоркском приюте для мальчиков, довольно суровом заведении в Бронксе, куда направляли сирот и впервые преступивших закон малолеток.
До этого Джино еще ни разу но приходилось сидеть взаперти. С первых же минут пребывания там он ужаснулся ощущению полной отрезанности от мира. Заправлявшие воспитательным процессом монахи были лишены всяких сантиментов. Дневная деятельность полностью подчинена строжайшей дисциплине, зато по ночам некоторые из братьев готовы были стать с мальчиками нежными и ласковыми. Джино испытывал отвращение. Выбора у его товарищей никакого не было.
Работу, на какую его определили в портняжной мастерской, он ненавидел. Командовал в мастерской брат Филипп, не расстававшийся с тонким стальным прутом, и горе мальчишке, если тот отлынивал от порученного дела. Когда очередь подвергнуться наказанию дошла до Джино, брат Филипп предложил ему недвусмысленный выбор. Джино плюнул ему в лицо. С этого момента он подвергался порке не реже чем раз в три дня.
Джино провел в приюте уже полгода, когда в один из дней прибыл новенький — щуплый маленький мальчик, которому не исполнилось еще и тринадцати, сирота. Коста — так его звали — показался брату Филиппу настолько лакомым кусочком, что он решил не тратить времени даром. Мальчишка отверг его домогательства, но кончилось дело для него плохо. Стоя в стороне, товарищи смотрели во все глаза, как их наставник поволок упирающегося Косту в кладовку, где начал вытворять с ним такое, от чего из-за двери послышались недетские крики.
Джино стоял, как и все, не в силах что-либо сделать.
Прошло полтора месяца. Коста угасал у них на глазах. Слабый и худенький еще в день своего прибытия, теперь он превратился просто в тень. Джино старался не замечать этого. Выжить в тех условиях значило думать в первую очередь о себе.
Однако когда Джино в следующий раз увидел, что брат Филипп вновь подступает к мальчишке, он почувствовал, как мышцы его напряглись. Коста пытался сопротивляться, но монах затащил-таки его в кладовую и захлопнул за собою дверь, из-за которой через мгновение донеслись стоны и вопли.
Больше терпеть Джино не смог. Схватив лежавшие на столе ножницы, он направился к двери. Раскрыл ее рывком. Коста лежал на столе — ноги со спущенными брюками и трусами свисали вниз, на его тощую задницу всем телом навалился брат Филипп. Полностью отдавшись наслаждению, этот подонок даже головы не повернул на открывшуюся дверь. Конвульсивно дернувшись, он вошел в мальчишку. От нечеловеческой боли Коста закричал.
Не отдавая себе отчета в том, что он делает, Джино бросился на монаха, вонзив ножницы ему в руку.
— Отпусти его, ты, вонючее дерьмо! Оставь его в покое!
Брат Филипп, готовый вот-вот кончить, пораженный дерзостью нападавшего, попытался оттолкнуть Джино от себя. Это было ошибкой. Джино уже не владел собой. Вместо монаха он вдруг увидел перед собой родного отца, глаза застилала какая-то темная пелена. В этот момент он ненавидел отца за все: за уход матери, за побои, за чужие семьи, в которых ему приходилось жить, за их отвратительные однокомнатные квартирки, заменившие ему дом.
С жутким воплем он поднял и опустил ножницы. Поднял и опустил. Поднял и опустил. Он продолжал наносить удары до тех пор, пока грузное тело негодяя не свалилось к его ногам. Только тогда пелена с глаз спала, и он вновь обрел возможность ясно видеть. И в том, что он перед собой увидел, не было ничего хорошего.
Стояло долгое жаркое филадельфийское лето. Льюрин Джонс сидела на кровати, которую она делила со своим шестилетним братишкой Лероем, и по ее красивому темнокожему личику катились слезы. Ей было тринадцать, и она находилась на седьмом месяце беременности. Никто, кроме нее, об этом не знал, и обратиться ей было не к кому. Отца у нее не было, денег тоже, а ее мать, Элла, высохшая, превратившаяся в старуху женщина, подкладывала свою дочь под каждого желающего, требуя с него в качестве платы наркотики.
Лерой захныкал, и она вновь опустилась на кровать. Но сон никак не приходил. С нижнего этажа доносилась громкая музыка — опять к матери пришел очередной «друг». Через мгновение снизу послышался какой-то шум, а за ним — вздохи и стоны. Сдавленные вскрики, звуки ударов по телу.