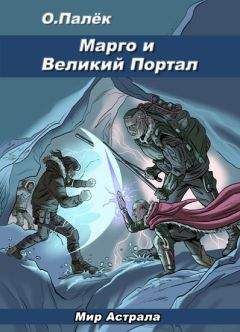Марион считала, что им не следовало рожать Рут. На каждом этапе своего взросления этот ребенок был мучительным напоминанием соответствующих этапов детства Томаса и Тимоти. Коулам никогда не требовались няньки для сыновей — Марион тогда была идеальной матерью. Но что касается Рут, то тут практически ни дня они не могли обойтись без няньки, потому что хотя Тед всегда демонстрировал готовность посидеть с ребенком, проку от него было мало, когда речь шла о повседневном уходе за девочкой. И если Марион тоже была неспособна исполнять эти обязанности, то она, по крайней мере, знала, в чем они состоят и что кто-то должен их исполнять.
К лету 58-го Марион сама стала главным несчастьем своего мужа. Пять лет спустя после смерти Томаса и Тимоти Марион считала, что ее муж легче переносит смерть сыновей, чем ее присутствие. А еще Марион боялась, что не всегда сможет запрещать себе любить дочь.
«А позволь я себе полюбить Рут, — думала Марион, — то что я буду делать, если что-то случится с ней?» Марион знала, что не перенесет потерю еще одного ребенка.
Тед недавно сказал Марион, что хочет «попробовать разъехаться» на лето, ну, просто, чтобы посмотреть, не сделает ли это их счастливее. В течение нескольких лет, еще до смерти ее любимых мальчиков, Марион спрашивала себя, не следует ли ей развестись с Тедом. Теперь же он хотел развестись с ней! Если бы они развелись, пока Томас и Тимоти были живы, то не стояло бы и вопроса о том, с кем останутся дети — это были ее мальчики, они бы выбрали ее. Тед никогда бы не смог оспорить столь очевидную истину.
Но теперь… Марион не знала, что делать. Случались моменты, когда она даже помыслить не могла о том, чтобы поговорить с Рут. Вполне понятно, что девочка выбрала бы отца.
«Так что же, — спрашивала себя Марион, — решено?» Он берет все, что осталось: дом, который она любит, но которого не хочет, и Рут, которую она не может или не позволяет себе полюбить. Марион возьмет своих мальчиков. Тед может оставить себе от Томаса и Тимоти то, что запомнил. («Я должна взять все фотографии», — решила Марион.)
Звук пароходного гудка напугал ее. Ее указательный палец, который продолжал обводить контуры голых плеч Эдди О'Хары, слишком сильно надавил на страницу ежегодника — ноготь сломался, и палец стал кровоточить. Она обратила внимание, что ее ноготь пробороздил канавку на плече Эдди. На страницу попала капелька крови, но она тут же сунула палец в рот и отсосала кровь. И только теперь Марион вспомнила: Тед нанял Эдди при условии, что у того есть водительские права, и договорился с ним о летней работе прежде, чем сказал ей, что хочет «попробовать разъехаться».
Паром загудел снова. Звук был такой пронзительный, что донес до нее очевидное: Тед уже некоторое время назад точно решил, что уходит от нее! К удивлению Марион, она, осознав его обман, ничуть не разозлилась; она даже не была уверена, достигает ли ее ненависть к нему того накала, который свидетельствовал бы о том, что когда-то она любила его. Неужели для нее все прекратилось или переменилось со смертью Томаса и Тимоти? До этого момента она предполагала, что Тед на свой манер все еще любит ее, но тем не менее именно он инициировал эту попытку разъехаться, разве нет?
Когда она открыла дверь машины и вышла наружу, чтобы приглядеться к пассажирам, сходящим с парома, тоска сжимала ее сердце с той же силой, с какой сжимала все эти пять лет, но в голове у нее было ясно, как никогда. Она отпустит Теда, она даже отдаст ему дочь. Она бросит их до того, как у Теда будет возможность бросить ее. Направляясь к причалу, Марион думала: «Все, кроме фотографий». Для женщины, которая только что пришла к таким серьезным решениям, шаг у нее был слишком уж ровный. Всем, кто видел ее, она казалась абсолютно безмятежной.
Первый водитель, съезжавший с парома, был идиотом. Его так ошеломила красота женщины, идущей ему навстречу, что он свернул с дороги на каменистый песок берега; он еще не знал, что будет целый час выбираться оттуда, но даже когда и понял это, не мог оторвать глаз от Марион. Он ничего не мог с собой поделать. Марион не заметила этого происшествия — она шла себе и шла вперед неторопливым шагом.
Всю свою будущую жизнь Эдди О'Хара будет верить в судьбу. Ведь не успел он ступить на берег, как увидел Марион.
Эдди скучает и возбуждается
Бедный Эдди О'Хара. Оказавшись вместе с отцом где-нибудь на публике, он неизменно погружался в состояние ступора. Не были исключением и долгая поездка Эдди до причала в Нью-Лондоне, и долгое, как показалось, ожидание (вместе с отцом) парома из Ориент-Пойнта. В Экзетере привычки Мятного О'Хары были не менее известны, чем его мятные леденцы. Эдди свыкся с мыслью о том, что и учащиеся и преподаватели бесстыдно бросались прочь, завидев его отца. Способность старшего О'Хары наводить тоску на аудиторию — любую аудиторию — стала притчей во языцех. Редко кому удавалось не заснуть на лекциях Мятного — число учащихся, усыпленных старшим О'Харой, было баснословным.
Метод усыпления, которым пользовался Мятный, не подразумевал никаких изысков — цель достигалась простыми повторами. Он зачитывал вслух касавшиеся ему существенными отрывки из заданного на дом произведения (когда предполагалось, что материал еще свеж в головах учеников). Однако свежесть в их головах заметно увядала по мере продолжения урока, потому что Мятный всегда находил много существенных отрывков, а вслух он их зачитывал с чувством и расстановкой, с паузами, повторяющимися для вящего эффекта; для рассасывания мятных леденцов требовались более длительные паузы. Бесконечные повторы этих навязших в зубах отрывков практически не сопровождались их обсуждением, а это отчасти объяснялось тем, что никто не мог оспорить явную важность каждого из этих отрывков. Сомнение вызывала разве что необходимость зачитывать их вслух. За стенами класса метод преподавания английского, используемый Мятным, так часто становился предметом обсуждения, что Эдди О'Харе нередко казалось, будто и для него уроки отца были адской мукой, что на самом деле не соответствовало действительности.
Адские муки выпадали на долю Эдди в других местах. Он был благодарен судьбе за то, что с самого раннего детства питался по большей части в школьной столовой — сначала за преподавательским столом вместе с членами семей других преподавателей, а позднее — с однокашниками. А потому каникулы были единственным временем, когда О'Хары всем семейством обедали дома. Обеды, регулярно даваемые Дот О'Хара (хотя лишь немногие преподавательские пары удостаивались се одобрения), были совсем другой историей. Эдди на этих приемах не скучал, потому что, по воле родителей, его присутствие на них ограничивалось самым коротким появлением вначале — это была своего рода дань вежливости.
Но на семейных обедах во время школьных каникул Эдди в полной мере подвергался отупляющему воздействию идеального брака его родителей: они друг другу никогда не могли наскучить, потому что никогда друг друга не слушали. Обращались они между собой с заботливой вежливостью; мама позволяла папе говорить сколько угодно, а потом наступала ее очередь — и ее предмет почти всегда никак не был связан с тем, о чем говорил отец. Разговор мистера и миссис О'Хары был шедевром алогичности; Эдди, не участвовавший в этих разговорах, мог развлекаться разве что строя догадки: останется ли в памяти собеседников хоть что-нибудь из сказанного другим.
Как раз перед его отъездом на паром, направляющийся к Ориент-Пойнту, и выдался один из таких вечеров в их доме в Экзетере. Школьный год закончился, актовый день прошел, и Мятный О'Хара философствовал на тему того, что он именовал «поведенческой леностью» учеников во время весеннего семестра.
— Я знаю, у них на уме уже летние каникулы, — сказал, возможно уже в сотый раз, Мятный. — Я понимаю, что возвращение теплой погоды уже само по себе располагает к праздности, но уж не к такой праздности, какую я наблюдал этой весной.
Его отец произносил подобные сентенции каждую весну, и уже сами эти сентенции вызывали какое-то жуткое оцепенение у Эдди, которому как-то раз пришла в голову мысль: а не кроется ли причина его единственного спортивного увлечения в том, что бег — это своего рода попытка убежать от голоса его отца, от его предсказуемых модуляций, как у циркульной пилы на лесопилке.
Мятный еще не успел закончить — отец Эдди, казалось, никогда не успевал закончить, — но, по крайней мере, остановился, чтобы перевести дыхание или проглотить то, что положил в рот, как начала мать Эдди.
— Будто не было достаточно того, что мы всю зиму наблюдали, как миссис Хейвлок расхаживает без бюстгальтера, — начала Дот О'Хара, — теперь, когда снова потеплело, мы должны страдать оттого, что она не бреет волосы под мышками. А о бюстгальтере речь по-прежнему не идет. Только на этот раз, кроме отсутствия бюстгальтера, мы имеем еще и небритые подмышки! — заявила мать Эдди.