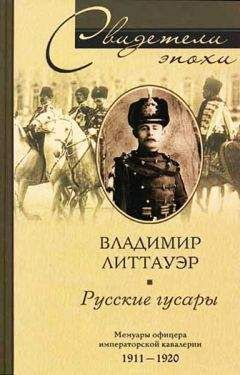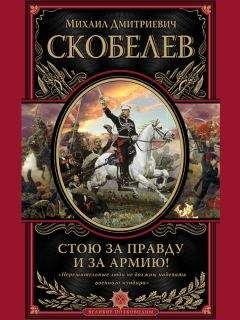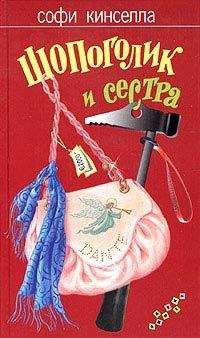Произнося свою речь, Сурмилов барабанил толстыми пальцами по лакированной столешнице, осанисто вскидывал голову, но воровато отводил глаза. Иногда самым нахальным, грубым и бесцеремонным людям бывает трудно произносить заведомую ложь. А ему было попросту стыдно. Когда князь Гондлевский дал приют его кровиночке, он не посмотрел на то, что Лизонька русская. А ведь тогда Россию в Польше ненавидели, наверное, и сейчас не больно-то любят.
Мы-то поляков любим, нам с ними делить нечего, а вот приходится, как простого садовника, отправлять высокородного шляхтича в оранжерею. Но с другой стороны – что ему делать-то? Может, для Польши князь Гондлевский завидный жених, а для России он ноль, поскольку католик. Никто разрешения на эту свадьбу не даст. И своевольничать нельзя, а то, не приведи господь, упекут Лизоньку в монастырь.
Ксаверий внимательно выслушал Сурмилова, ни один мускул в лице его не дрогнул.
– Я все понял, господин Сурмилов. Извольте показать, где я буду жить.
Расторопный слуга отвел шляхтича в сторожку, а вечером дочь закатила Карпу Ильичу совершенно фантастическую сцену со слезами, истерикой и, наконец, обмороком. Так и повалилась бедная на ковер, а когда после нюхательной соли пришла в сознание, то прошептала, словно в беспамятстве:
– Поздно уже, батюшка.
– Вот именно, что поздно. Уж двенадцать пробило. В постельку пора.
– Я не о том толкую. Поздно меня уговаривать. Ксаверий – отец моего будущего ребенка. Если не благословишь наш брак, я пешком за ним уйду. Мне без Ксаверия не жить.
Оставим их одних после этой трагической, душераздирающей сцены, пусть сами разбираются, а мы пройдемся по Петербургу и посмотрим, что делают другие наши герои.
Шамбер в этот момент обретается в совершенно новом для нас месте, а именно на загородной даче генерала Рейхеля и непринужденно беседует с садовником. Садовник, разумеется, немец, русских на эту должность в хорошие дома не берут, потому что они ничего не понимают в мальвах, нарциссах и шпалерных розах. На этот раз Шамбер отказался от бороды и усов и облачился в западное платье.
– А скажи, любезный друг. Может ли сыскаться в этом доме для меня достойная работа?
– Это вам лучше у хозяев узнать, – ответил садовник, с удовольствием отрываясь от работы.
– Вначале лучше потолковать с соотечественником.
– Так хозяин тоже немец.
– Это хорошо.
– А выговор у вас вроде не чистый.
– Я француз. А скажи, друг, дети есть у хозяина?
– Две дочери.
– Значит, гувернер им не нужен.
– И гувернантка не нужна. Они уж на выданье!
– Остается только порадоваться за милых дев, – Шамбер улыбнулся. Добродушная улыбка давалась ему явно с трудом.
– Да радоваться пока вроде нечему. Был жених, ходил в дом, а потом и перестал. Отказали ему. Вот так-то?
– А почему ж отказали?
– Что-то заболтался я, – вдруг озабоченно сказал садовник и принялся усердно обрезать сухие ветки у куста смородины.
– Почему свадьба расстроилась? – упорствовал Шамбер. – Жених плох?
– Уходите, сударь. Не моего ума это дело. Грех это, совать нос в господские дела, – секатор угрожающе щелкал в его руке.
Больше мнимый камердинер ничего не добился. Это был риск, явиться вот так в дом незнакомого генерала, но Шамберу необходимо было проверить сообщения мадам де ля Мот. Он нисколько не сомневался в добросовестности Николь, но она могла что-то напутать или стать жертвой откровенного вранья.
Теперь Шамбер знал все, или почти все, о секретаре шведского посланника. Молодой человек из хорошей семьи, но имел несчастье родиться младшим из трех сыновей. Это и заставило его искать счастья за морем в чужой стране.
Николь отзывался о секретаре Дитмере, как о хорошем работнике, он был трудолюбив, честен и лишен обычных, свойственных молодым людям пороков. Он не играл в карты на большие деньги, не дружил с Бахусом, не покупал дорогих лошадей, словом, был бережлив.
– Это у вас в Швеции называется «бережлив», а в Париже говорят скуп, – ворчал Шамбер, читая аккуратные, пахнувшие духами послания Николь. А может, и не духами они провоняли, а лекарствами шведа Карлоса.
«В Стокгольме у Дитмера была невеста, но, видно, все расстроилось. Во всяком случае, в Россию он уезжал стремительно. Сейчас он захаживает в дом генерала Рейхеля. Дитмера не раз видели на прогулке с Адель Рейхель. Я с ней незнакома, но, говорят, резвая девица. Видно, потому они и ссорятся так часто. Нолькен говорит, что по лицу секретаря сразу можно понять, пребывает ли он в мирных отношениях с Адель или они опять “расстались навсегда”. Но, похоже, дело идет к свадьбе».
Это были не просто ценные сведения, а единственная ниточка, а если хотите, нить Ариадны, которая привела бы Шамбера к его сомнительному успеху. Дитмер жил там же, где работал, то есть в шведской резиденции. Он редко выходил из дому, а если и выходил, то не подчинялся никакому режиму. Если бы Шамберу надо было его просто убить, то это была бы простейшая задача. Пробрался в дом через окно и всадил нож спящему в горло. Но как прикажите вытащить из дома труп и доставить его в усадьбу Козловского? Адель Рейхель была приманкой. Сама того не ведая, она поможет Шамберу привести секретаря в нужное место, в нужный час. А Петров меж тем сидит на удобной лавке в доме купца Фанфаронова, пьет с Сидоровым брагу и уже по третьему разу объясняет очевидное: если ты будешь вести себя так, как я тебе велю, тогда деньги и уважение, но если ты начнешь выкамаривать, проявишь самостоятельность и обманешь меня вместе с Шамбером, тогда Тайная канцелярия и Сибирь.
– Ты будешь делать все, что тебе прикажет Шамбер. Все, кроме смертоубийства. Этого не делай ни за что, потом не отмоешься. Понял?
Сидоров покорно кивал головой. Вид у него был вполне уверенный, усы на круглой роже опять показывали без десяти минут два.
– А как распоряжение получишь, этими же ногами беги ко мне. И горе тебе, если не успеешь. Понял?
Голова опять опустилась вниз в безусловном утверждении.
Нельзя сказать, чтобы любовь Матвея перевернула всю жизнь Николь, но она заставила ее о многом задуматься и посмотреть на себя со стороны. Она не обманывала князя, когда признавалась ему в любви. Это было то самое чувство, которого она втайне ждала всю жизнь.
Наивность князя она называла честностью, в бесшабашности, часто нелепой, ей виделись смелость и удаль, болезненную застенчивость, которая иногда и ее вводила в краску, казалась скромностью и добротой. Впрочем, все это не так уж далеко от истины.
И на русский язык она перешла без всякого умысла. Монтень описал подобное лучше, чем это бы сделала я. «Латинский язык для меня как родной, я понимаю его лучше, чем французский, но уже сорок лет совершенно не пользуюсь им как языком разговорным и совсем не пишу на нем; и все же при сильных и внезапных душевных движениях, которые мне довелось пережить раза два-три за мою жизнь, и особенно в тот раз, когда я увидел, что мой отец, перед тем совершенно здоровый, валится на меня, теряя сознание, первые, вырвавшиеся из глубины памяти и произнесенные мной слова были латинскими: природа сама выбивается наружу и выражает себя, вопреки долгой привычке».