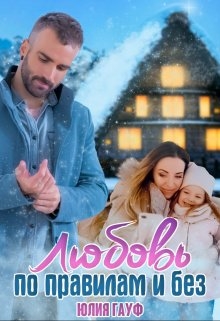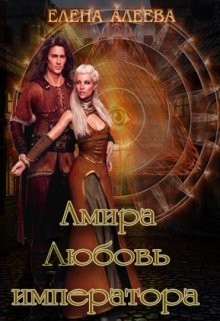20
Виктор смотрит пронзительно. Ждет. Он так осунулся, так захирел. Он… такой родной!
— Настя, любимая, — его ладонь так привычно накрыла мою. — Милая моя, хорошая, давай постараемся! Прошу тебя! Если не сможешь переступить, если не простишь — тогда отпущу. Обещаю. Но давай постараемся. Ради Кати, ради нас… Настя, Настенька… любимая моя…
Мои губы кривятся, горло сковал спазм. Мне плохо! Невыносимо! Именно сейчас, не раньше, не когда увидела их с Наташей… Сейчас я умереть хочу. Дышу загнанно, а Виктор шепчет, просит, молит, и мой крепкий лёд трещит.
— Прости, — вскочила, оттолкнула стул с жутким грохотом. — Прости…
— Настя!
Побежала к выходу. Не помню, как забирала пальто. Не помню, как оторвалась от Виктора, и вообще бежал ли он за мной. Не помню.
Из-за слез ничего не видно, но хоть чувства возвращаются. Мне холодно, сижу на лавочке во дворе у какой-то пятиэтажки. Первомайская, двадцать восемь, как указано на сине-белой табличке. Пальто промокает от снега, которым покрыта лавка. Я мерзну, но продолжаю сидеть.
Как же горло болит! Как же глаза печёт! В них даже не песок — стекло.
Нужно Егору звонить. Пусть забирают меня. Да и как там Катя нужно поинтересоваться. Достала телефон из сумочки, которую не иначе как чудом не забыла захватить, и… разревелась.
Нет, не нужно сейчас Кате меня видеть.
«Тебе не сложно побыть с Катей еще пару часов? Прости за такую наглость» — написала Егору, сжала смартфон в ладони, и согнулась, пряча мокрое лицо от ветра.
Звонок.
— Алло, — прохрипела жутким голосом.
— С Катей могу побыть, — впервые Егор разговаривает со мной… так. Не зло, не мягко. Холодно и настороженно, скорее. — Ты с ним?
— Я… нет. Одна. Мне нужно, — ответила отрывисто, и это максимум, на что я сейчас способна.
— Как ты? Могу оставить Катю с братом. Он нормальный, адекватный. Оставлю её, и за тобой заеду. Хочешь?
— Егор, я… мне нужно подумать, одной побыть, ладно?
— Понял. Я на связи. Насть, — он шумно выдохнул, — глупости только не делай.
Я кивнула, будто Егор видит меня, и сбросила звонок. Невежливо, хамски. Я вообще им пользуюсь сейчас. Я даже о Кате, о самом своем дорогом и любимом человеке, думать не в состоянии. Только о себе. О Викторе. О нас.
Села в такси, и за двадцать минут добралась до дома тети. Переоценила я себя — не могу я одна быть. Но и Егора заставлять себя утешать я не стала бы — это уже высшая степень неуважения.
Тетя открыла быстро, будто стояла за дверью, и ждала меня. Пока ехала в такси, я успокоилась, слезы высохли. Но едва тетю увидела, снова скривила губы, и жидкая соль потекла по щекам.
— Ох, племяшка, — раскрыла моя родная объятия, и я как в детстве упала в них за утешением. — Витька?
— М-м-м-м, — промычала, слова снова не идут.
Вою некрасиво, с места сдвинуться не могу. Дверь открыта, мы в проходе. Сквозит. Мне так плохо, Боже! Я вся — рана открытая, неумелый коновал её залатал парой стежков, и вот, открылась. Кровит. Я сыплюсь, я — уже не я. Столько лет, столько гребаных лет вместе, столько воспоминаний, планов, любви, надежд. Столько всего, и? В руины? За что? Хоть кто-то застрахован от разочарований? Да и плевать на этих кого-то, почему мне досталось? Почему? В чем я нагрешила, чтобы заслужить это?
— Тише, ну тише, моя маленькая. Не убивайся… во-о-от, подними-ка личико, ой, какая заплаканная, замурзанная, — шепчет тётя что-то ласковое, утешительное. — Давай-ка слезки вытрем, ну всё-всё, не плачь… ладно, плачь, — вздохнула она, и обняла крепче.
Я уже икаю. Голова трещит от боли, дрожу, сотрясаюсь от своего женского, горького, невыразимого. И прихожу в себя.
— Выплакалась? А теперь марш в ванную, умойся хорошенько, высморкайся, а я пока чай налью. Или чего покрепче, — тетя смерила меня строгим взглядом, и шлепнула по бедру. — Иди, — она помогла мне снять пальто.
Выгляжу я ужасно. Не умею красиво плакать — вся в пятнах, опухшая, капилляры полопались. Носом шмыгаю. Мда, сейчас я выгляжу на свои безжалостные годы, если не старше.
— Садись и рассказывай, по какому поводу трагедия. Довел? Угрожал?
— Не угрожал. Я сама себя довела, — обхватила чашку ладонями, греясь, и начала рассказывать.
Думала, все слезы выплакала, но говорю, а они текут. Уже без надрыва, без истерики, я не захлебываюсь в них, а плыву. И боль накатывает, но не оглушающая, а тупая, сволочная такая боль, от которой на пару секунд задыхаешься, и сердце замирает, а потом снова вроде ничего, вроде и жива.
— То есть, ничего нового он тебе не сказал, — постановила тетя. — И по какому поводу тогда твой апокалипсис?
— Больно.
— Было бы странно, если бы было хорошо.
— Тёть, — я закрыла глаза, пытаясь справиться с головной болью, — очень больно, понимаешь? Обидно — сил нет!
— Это мы уже с тобой обсуждали, хватит. Так развод вы не обсудили? Ты просто пришла, выслушала Виктора, и удрала?
Черт. А ведь правда.
— Ну ты, Настя… да-а-а!
— Тёть…
— Ой, не смотри на меня так, — отшатнулась тётушка, и сразу же придвинулась ближе, вплотную. — Настька, ты чего удумала? Жалеешь его? Я же тебя как облупленную знаю. Только не говори, что ты решила вернуться.
— Я и не говорю.
— Но? — изогнула тетя бровь, а я опустила глаза. — А где же эти твои заявления, что ты не можешь развидеть, как Витя эту Наташку пользовал? Или всё, покаялся кобелина, а ты и рада в привычное болото?
— Я… я не простила, — спрятала лицо в ладонях, и глухо выдала самое сокровенное: — Тёть, я не знаю, всё сложно! Витя-то прав во многом.
— В чём это он прав? Ты сбрендила?
— Я же иногда ревновала его — даже не к роковухам, а к обычным женщинам. А тут Наташа. И Витя… он говорил мне, что она вроде как сигналы ему подает, а я смеялась. Дура. Мы не лучшими подругами были, и такого уж сильного доверия не было, но я не слепая, и Наташу воспринимала… ну…