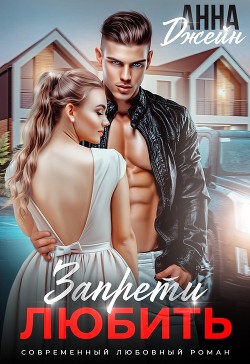В ответ муж скептично хмыкает.
— Ладно. Позже ещё тебе наберу, как будет возможность, — явно прощается он.
— Хорошо, — говорю, но на том конце связи меня уже не слушают.
Агеев вешает трубку.
Как же меня бесит эта его привычка!
— Вот видишь, и объясняться не пришлось, — тут же отпускает едкий комментарий Рупасов, явно расслышав каждое слово состоявшейся беседы.
Он вновь беззаботно улыбается, да и вообще всем своим видом демонстрирует спокойствие.
Что выбешивает ещё больше! Особенно, если учесть, что ни одного вопроса — почему всё именно так, от него не следует.
В общем, зародившаяся во мне злость только растёт и крепнет. Но это даже хорошо, потому что она гасит все былые страхи и опасения.
И, раз уж так…
— Матвей — не твой сын, Артём, — проговариваю сходу, игнорируя его предыдущее высказывание. — Что бы ты не решил из-за того, что ему семь — это не так. Ты ошибаешься.
На несколько секунд воцаряется обоюдное молчание. И если я просто-напросто даю Рупасову возможность осмыслить сказанное мною последним, то он — явно пытается подобрать подходящие слова.
Артём резко выпрямляет спину, пристально вглядываясь в моё лицо в явном желании распознать, почему я снова его обманываю. Но я не обманываю. И он тоже это в какой-то степени осознаёт, пусть и не до конца, сомнений полно, я их вижу. А лицо самого мужчины моментально каменеет. Взгляд синих глаз смотрит с непониманием и неверием.
Чёрт, он ведь и правда решает, что Матвей — его!
Сердце в который раз предательски сжимается, но смягчать ни эту, ни встречную в находящемся напротив боль я не намерена.
Раз уж начинаю, так до конца пойду.
Мы оба это всё заслуживаем с лихвой…
— Что ты сказала? — едва слышно произносит Артём.
Столько растерянности слышится в его голосе, что в какой-то мере мне впору ненавидеть себя. Но потом я вспоминаю, чья на самом деле тут вина, поэтому повторяюсь без зазрения совести:
— Матвей — сын Романа Агеева. Не твой.
Если бы было возможно убить словами, наверное, я сейчас сделала бы именно это. Никогда в жизни не видела столько мучительной тоски и болезненной безысходности в бездонном омуте синих глаз моего самого первого в жизни мужчины.
— То есть как? — до сих пор не верит мне Рупасов.
Тяжело вздыхаю, попутно отмечая, что Матвей всё ещё занят водным аттракционом, а значит точно не услышит дальнейшего.
— Если так принципиально, могу показать тебе свидетельство о рождении, — проговариваю твёрдо, глядя прямо в глаза мужчине, хотя на самом деле, больше всего на свете хочется смотреть куда угодно, но только не на то, как расходится на части его сердце. — Матвей родился в то время, когда у меня должна была пойти тринадцатая неделя беременности, соответственно, он никак не может быть твоим сыном. Не я его родила. Другая женщина. Она умерла при родах. В том же роддоме, где я была, когда… — запинаюсь, не в силах договорить.
Сколь бы решительности не было во мне, она тает в одно мгновение — быстро и безвозвратно, стоит только подойти к теме о собственном ребёнке.
— Не ты родила? — повторяет за мной бестолково Артём.
Вопреки тону, в синих глазах эмоции мелькают с такой скоростью, что я и не успеваю распознать их все.
— Не я, — подтверждаю, кивая.
Вот теперь я вижу в нём то самое чувство, которое очень знакомо. Вспыхнувшую неприкрытую ярость, смешанную с чистейшей ненавистью, целиком и полностью посвящённую мне одной.
Если бы она тоже была способна убить…
То я давно мертва.
— Другая, да? — вкрадчиво уточняет мужчина.
Он поднимается с места и мне приходится повторить за ним.
— Да, — киваю снова.
Шагаю ему навстречу, намереваясь взять его за руку, хоть как-нибудь успокоить и объяснить, почему всё так выходит, но Рупасов отшатывается, не позволяя сократить дистанцию между нами.
— Ты сделала аборт, чтобы воспитывать чужого ребёнка? — больше не спрашивает, констатирует факт Артём, болезненно морщится, а его лицо буквально застывает на этом моменте, мужчина всё ещё смотрит на меня, но в то же время будто бы и не видит, а мой окончательный вердикт не заставляет себя долго ждать: — Михалёва, ты — ебанутая… — заканчивает с отвращением.
Былая злость, вспыхнувшая в нём, на моих глазах превращается в презрение, смешанное с горьким сожалением. Да, эта эмоция не должна ранить так сильно, как предыдущая, но… оказывается, для меня это не так. И если пару секунд назад я ещё собиралась прояснить ситуацию и даже попросить прощения, если придётся, то последнее напрочь отрубает любое желание сделать хоть ещё один шаг навстречу тому, кто посмел отозваться об отношении к Матвею в таком ключе. Ведь он — то единственное, что помогает мне восемь лет назад удержаться на краю и не сгинуть окончательно в беспросветной темноте, которая окружила тогда. И пусть я ещё совершенно точно об этом пожалею, но сейчас не интересуют последствия. Всё, что остаётся — бесконечная обида.