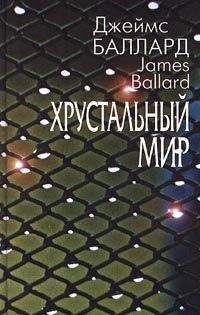вдохновенную проповедь.
Это приближалась его сестра: сильно изменившаяся и, увы, судя по лицу, многогрешная. Что ж, тем лучше: лучше, что она нуждается в помощи. Ему ли привыкать – ему, имеющему дело с паствой дурной, а не праведной? Как Фанни спасла его тем, что прогнала, так и он спасет ее сейчас, отплатит за добро. Он станет представителем ее души в одиннадцатый час [19], который, судя по тому, как она постарела, уже не за горами.
Нежданное появление Фанни вдохновило Хислупа. Он сам чувствовал, что никогда еще не был столь убедителен. Продолжая проповедь, он мысленно молился, чтобы хоть отдельные его слова оросили верой потайные и, вне всякого сомнения, иссушенные впадины ее души. И впрямь Фанни слушала очень внимательно. Майлз говорил о чудесных вещах, и Фанни, которая подошла достаточно близко, чтобы улавливать каждое слово, получала истинное удовольствие и радовалась успеху Майлза. Вдобавок она теперь как следует его рассмотрела и нашла, что он стал очень недурен. Худоба ему к лицу, а внутренний пламень, пожирающий его, определенно только на пользу, думала Фанни.
Она смотрела и слушала с нарастающим интересом. Десять лет назад Майлз был этаким толстячком (именно толстячком, а не толстяком), и когда сидел молча, когда своим рвавшим за душу голосом не говорил «Фанни» или что-нибудь в этом роде, она положительно не знала, привлекателен он или нет. Ужас как несправедливо, что пустяки вроде упитанности ставят любовника в столь невыгодное положение, однако это так, а в случае с Майлзом (чей истинный дар заключается в дивном голосе и, как теперь ясно, во владении словом) восторженная немота в совокупности с упитанностью были катастрофичны. Фанни искренне радовалась, что постничество подъело лишний жирок и что Майлз преодолел восторженную немоту, преодолел многие вещи и вот проповедует, торжествующий, вдохновенный, со стула. А кто помог ему взобраться на этот стул? Конечно, она, Фанни, это же очевидно.
Бывшие возлюбленные перед ней в большом долгу, развивала Фанни свою мысль, гордясь почти по-матерински потоками красноречия, что изливались со стула. Каждый в свое время, уходя из ее жизни, задел струны ее души, оставил неуютное ощущение, что Фанни проявила жестокость, но, по сути, для каждого из ее мужчин разрыв знаменовал начало нового счастья. Взять Джима: как славно он устроился со своей Одри, – или Майлза. Повинуясь импульсу, Фанни вырвала листок из записной книжки и нацарапала:
«Майлз, ты великолепен. Мы должны увидеться. Можно, я разделю с тобой вечернюю трапезу, когда ты закончишь чудотворствовать? Где ты ужинаешь?
Фанни».
Записку, заодно с шиллингом, она протянула мальчугану, что случился поблизости, и попросила передать ее как-нибудь мистеру Хислупу.
– Отцу «’Ислопу? – уточнил мальчик.
– Полагаю, да, – сказала Фанни.
– Который на стуле стоит?
– Вот именно.
Уверенной рукой, как человек, который привык получать послания во время проповеди, Майлз взял у мальчугана записку, пробежал ее глазами, не сбившись с темы, и в упор взглянул на Фанни, что вклинилась в самую гущу паствы. Он воздел руку и быстро сотворил крестное знамение. Паства, несколько удивленная – обыкновенно отец ’Ислуп посреди проповеди знамений не творил, – все-таки сочла таковое необходимым приложением к словам и склонила головы, но Фанни-то знала, что крестное знамение адресовано ей, и, довольная, выдохнула про себя: «Милый, милый Майлз».
Стоп. Что он имел в виду? Что Фанни должна подождать? Что он поговорит с ней позднее? Что он дает ей отставку? Точно так же он осенил ее крестным знамением в день последнего прощания – но тогда отставку давала она. Нет, какая отставка? Майлз ее благословил, совсем как десять лет назад. Она закавычена в благословения – тогдашнее и сегодняшнее. И сразу Фанни стало легко и спокойно. Привыкшая к ощущению, что ее берегут и лелеют, в последние месяцы Фанни по нему тосковала – и вот оно вернулось.
Фанни, охваченная теплыми чувствами к Майлзу, приготовилась ждать. И вдруг спохватилась: они скоро останутся с глазу на глаз, а как она выглядит? Будет ли неуместным или неправильным открыть сумочку и привести в порядок лицо? Всего лишь припудриться – ни помадой, ни румянами, ни тушью Фанни сейчас не воспользуется. В конце концов, проповедь проходит под открытым небом, а это совсем не то, что в церкви, и вообще можно укрыться за спиной вот этого здоровяка.
Но Майлз, похоже, развил за эти годы не одно только красноречие: у него появилась нездешняя проницательность, ибо, едва Фанни шагнула за широкую спину, достала зеркальце и увидела, что с лицом срочно надо что-то делать, едва начала (со всей деликатностью и в уверенности, что ее не видят) наносить тончайший слой пудры, как Майлз, посреди своей проповеди (или рассуждения, или обращения, или бог знает чего) вдруг заговорил о блудницах.
Само по себе это, разумеется, ничего не значило – ведь каждый священник рано или поздно поднимает тему блудниц. Дело было в другом: вся Майлзова паства, как бы с целью подчеркнуть произносимое им, вдруг повернулась и уставилась на Фанни. Чистое совпадение, конечно, но оно непонятно почему так рассердило Мэнби, что она сверкнула на Фанни взглядом и выдала приглушенным, но отчетливым голосом (приглушенным потому, что почитала себя находящейся почти что в церкви, отчетливым же – потому что хотела избежать недопонимания):
– Дурное, недостойное вашей светлости место; напрасно, ваша светлость, здесь стоите.
– Не мешай, Мэнби, – парировала Фанни. На нее всегда все смотрят: она к этому привыкла, – и она не блудница – это ведь ясно; так какие могут быть проблемы? – Дай послушать.
И продолжила заниматься своим лицом (ведь невозможно, раз начав пудриться, прервать процесс на середине), удерживая нить Майлзовой речи.
Ах как он говорил! Все, чего касался его упоительный голос, мигом делалось важным и прекрасным. Что за страсть, что за убежденность! Майлз вибрировал не только голосом, а всем телом. Грешники всех сортов, блудницы, откупщики, неверные жены – все претворялись в чистое золото. Преображенный голосом Майлза, точно кистью старого мастера, каждый делался интереснейшей персоной: откупщик обретал весомость библейского персонажа, неверная жена – невесомость небесной мелодии. Когда Майлз добрался до неверных жен, его паства опять начала оборачиваться к Фанни, но Мэнби была начеку, и под ее грозными взорами любопытствующие быстро стушевались.
Сама Фанни ничего не имела ни против взглядов, ни против домыслов: пускай смотрят, пускай домысливают. Фанни не изменяла мужу – значит, и беспокоиться не о чем. Дурында Мэнби. Слуги вообще глупо ведут себя в подобных случаях – все боятся, как бы их или господ (которых они считают своей собственностью)