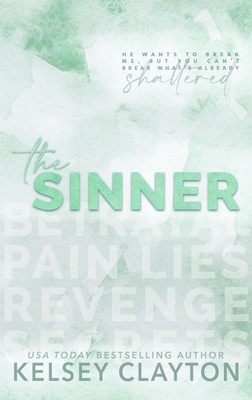быть осторожной, – устало возражаю я. – Ты хотела, чтобы между нами было какое-то подобие сделки, и я ее нарушил.
– Но я тоже ее нарушила, – признается она. – Я не могла тебе сказать, потому что боялась разжечь… это пламя у себя в груди. Но, Шон, каждый раз, когда ты говорил что-то из тех вещей…
– Вещей?
Она машет рукой.
– Ты знаешь, что я имею в виду. Или всякий раз, когда твой голос становился низким и грубым, или когда твои глаза расширялись, становясь такими большими и открытыми, как небо после дождя… Каждый раз я чувствовала, как этот огонь пытается разгореться и пробиться на свободу. Ты делаешь это со мной. Из-за тебя я распадаюсь на части, и это все, что я могла сделать, чтобы боль была не такой сильной. Я любила тебя, и мне было страшно, и, если бы я была честна… Ну! – Она делает глубокий вдох и берет мою руку в свои, прижимая ее к своему сердцу. – Может быть, это было бы не так больно.
Ее сердце тихо бьется в груди, подобно усталой и печальной птице, и я не могу удержаться. Еще один поцелуй, одно последнее касание губ и последний глоток ее страсти.
– Все равно было бы больно, Зенни-клоп, – шепчу ей в губы. – Всегда.
Напоследок я запоминаю ее образ – темные, сияющие глаза, маленький курносый носик и копна пышных щекотливых кудряшек, а затем отдаю ее в руки Бога и ее сестер. Выхожу из комнатки и закрываю за собой дверь, тем самым лишая нашу любовь возможности жить, и из-за этого мое сердце разбивается вдребезги.
Я спешу побыстрее убраться из монастыря, направляясь быстрым шагом по центральному коридору к входной двери, и проталкиваюсь сквозь нее, как будто мне не хватает воздуха.
Так и есть. Кислород на исходе. Я задыхаюсь от собственной боли, от щемящих сердце сожалений. И я даже не могу собраться с силами, чтобы послушать церковные песнопения и молитвы, эхом разносящиеся по монастырю, просто бросаюсь вниз по лестнице на старый разбитый тротуар, желая, чтобы шум городского транспорта и ветер заглушили мелодию свадьбы Зенни с Христом.
«Почему ты так со мной поступил? – требую я ответа от Бога. – Какая на то может быть причина?»
Ответа нет, конечно же, нет. Если я чему и научился за последнюю неделю мирного сосуществования с Богом, так это тому, что он очень редко сразу отвечает на недовольные молитвы.
Хотя ему лучше к ним привыкнуть. Я больше похож на Иакова, чем на Авраама, и готов в любой момент вступить в схватку с Богом. Я больше Иона с его засохшим растением и угрюмым «Я так зол, что хотел бы умереть». Но теперь я начинаю думать, что все в порядке. Что честность, тоска, ярость и все остальные беспорядочные человеческие чувства предпочтительнее безжизненного благочестия.
Поэтому моя голова забита мрачными, тягостными мыслями, обращенными к Богу, которые превращаются в печальные и одинокие, когда я приближаюсь к своей машине в конце квартала.
«Я никогда не смогу разлюбить ее, – с грустью думаю я. – Она единственная, кто будет жить в моем сердце, пока я жив».
Бог наконец-то находит время ответить, и мой телефон громко заливается голосом Кеши. Я не узнаю номер звонящего, и загоревшийся огонек надежды угасает, вызывая очередной приступ боли в груди. Какая глупость, можно подумать, Зенни позвонила бы мне в середине своей церемонии? Что же я за жалкий идиот такой?
Я отвечаю, не утруждая себя скрыть свой унылый тон.
– Шон Белл.
– Шон Белл, – раздается в ответ скрипучий голос. Голос пожилой женщины. Знакомый голос. – Думаю, тебе лучше притормозить.
– Я… Что?
– Остановись. Замри на месте, – повторяет голос, как будто я не такой уж сообразительный, что, вероятно, так и есть, потому что я все еще не понимаю, о чем она говорит, пока не поворачиваюсь лицом к монастырю. И теперь весьма странно, но я уверен, что со мной разговаривает мать-настоятельница, но с чего бы это ей звонить мне…
Из парадной двери монастыря выскакивает какое-то белое пятно, и я замираю на месте.
А потом это пятно превращается в пышное облако, а пышное облако в свою очередь становится монахиней в подвенечном платье. Подобрав подол, она бежит ко мне.
Она выглядит как персонаж из фильма… или сна. Солнечные блики играют на ее коже и переливаются на шелке, ее волосы подпрыгивают и рассыпаются по шее и лицу, а ветер нежно ласкает ее, заставляя платье раздуваться у нее за спиной.
Я стою как вкопанный, лишенный всего, даже надежды, когда она, запыхавшись, подбегает ко мне.
– Теперь все в порядке, – раздается в трубке удовлетворенный голос матери-настоятельницы, и я слышу, как она вешает трубку.
Не говоря ни слова, я роняю телефон на землю и смотрю на Зенни.
– Не теряй своей радости, – говорит она, останавливаясь передо мной.
– Что? – тупо спрашиваю я.
– Вот что сказала мне твоя мама перед смертью. – Зенни делает глубокий вдох, шагая вперед. – Она сказала, что мы доставляем радость друг другу, что она поняла это по тому, как ты говорил обо мне.
– Зенни…
Она качает головой на саму себя.
– Я ведь даже сказала это. С тобой я становлюсь больше похожей на себя. Я подошла к началу прохода и поняла, что потеряла себя, такую, какая я рядом с тобой. Я поняла, что, идя к алтарю, не испытаю никакой радости. – Она поднимает на меня взгляд и смотрит прямо в глаза. – Ты доставляешь мне радость, Шон. Ты даешь мне возможность быть сильной, быть защищенной и любимой, и, пожалуйста, скажи, что еще не слишком поздно, пожалуйста, скажи, что я не опоздала…
Но я уже прижимаю ее к своей груди, уже целую ее. Беру ее за плечи и через мгновение отстраняю от себя, дрожа всем телом.
– Ты не примешь обеты? Правда?
Она застенчиво кивает, ее прекрасные губы медленно растягиваются в улыбке, и я снова притягиваю ее к себе для новых поцелуев.
– О, Зенни, – выдыхаю я, благодарно осыпая поцелуями ее переносицу, подбородок и ключицы. – Взамен я дам тебе все клятвы на свете, обещаю. Я стану для тебя всем на свете.
– Всем на свете – это заманчиво, – смеется она под моими поцелуями. – Но думаю, для девушки вполне достаточно одного Шона Белла.
Год спустя.
– Опять? – изумленно спрашиваю я.
– К твоему сведению, – говорит Зенни, забираясь ко мне на колени, – это очень обычное дело для женщины в моем