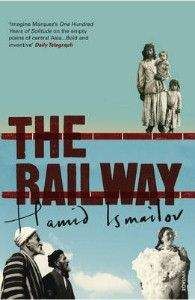И теперь, стоя на полотне, мальчик чувствовал какой-то отголосок той самой обиды, и даже предчувствовал ее в приближающемся дородном и веселом Таджи-Мураде, и когда тот спрыгивая с подножки, бросил ему: «Что, опять деда нет?», — мальчик обрушил всю копившуюся в нем обиду на этого смеющегося Таджи, вопя что есть сил:
— Умер он, умер, а в прошлый раз его пырнули ножом, да! Такой же проводник, потому что дед увидел, нет, услышал, что та кричит, то есть женщина, а этот пристает к ней с ножом, под вагонами, на рельсах. И он пырнул деда — два сантиметра до сердца, вот, а дед его ломом из-под вагона… — и мальчик захлебнулся словами, и в этом захлебе рванулся под вагон, и только в самый последний момент он почувствовал это толстое, жирное, противное тело на себе, эту провонявшую потом и маслом его лживую матроску из-под милицейской голубо-грязной рубашки, и собственное, душащее бессилие перед навалившимся…
И наплакавшись, он не почувствовал того облегчения, оттого ли, что саднила кожа на разбитых коленях и локтях, на исцарапанных галькой щёках, или оттого, что этот жирный боров опять, как ни в чем ни бывало уехал на ступеньке, разве только отряхнул на ходу свои штаны, маша желтым противным флажком, хотя никто не обращал на этот раз внимания на его бессмысленные отмашки.
Тогда мальчик спустился с полотна вниз, к водопроводной колонке перед базаром — безлюдной, как и сама станция, как и базар, умылся и почувствовал еще большее жжение саднящей кожи, и тогда, еще раз посмотрев в сторону уехавшего Таджи, подобрал с земли уголек и выцарапал на синей фанерной будке мороженщика Хуррама огромными буквами «Таджи — чучка!»[21]
Эта будка начинала собой ряд строений, идущих вдоль полотна от базара и до ателье индпошива, которое, по словам бабушки, и было в войну артелью Папанина, и этот ряд кончался с другой стороны точно такой же будкой сапожника Юсуфа, который только что закрывал ее, и как всегда, закрыв, проходил за будку Хуврона-брадобрея, стоявшую особняком, и там от души мочился…
Мальчику почему-то стало грустно за некрасивым делом, он даже хотел стереть то, что написал, но, всадив себе занозу на первой же букве, решил: пусть остается. Тем более что в наступившей темноте буквы стали совсем уж незаметны. Мальчик ждал этой темноты, чтобы с прилавка этой будки залезть на ее крышу, оттуда, через две жестяные крыши магазина от Оппок-ойим и «Фотографии» от Пинхаса, перебрался на крышу чайханы, да так, что никакой Таджи-Мурад не заметил бы как он оказался среди старых и растрепанных «курпача», заброшенных сюда еще дедом. Там, на чердаке чайханы у мальчика было свое потаённое, секретное место. Здесь под односкатной черепичной крышей он ночевал все ночи, когда уходил из дома, здесь, через вытяжную трубу, он слушал допоздна то завораживающие, то нудные истории Гиласа, которые, как и сейчас, бесконечно рассказывали старики…
Жил-был некогда Мирзараим-бий — правитель всех гор и джайляу[22] вокруг Эски-Мооката — предводитель киргизского племени «бору» — волков — материнского племени всех тюрков, и было у него четыре жены. А любил он больше всех — самую старшую и самую младшую. Старшую — Улкан-биби за то, что была она ему вместо матери. Ведь когда умерла мать Мирзараим-бия — горная красавица Айчирёк — ему было всего 7 лет и спустя год после смерти матери, отец женил Мирзараима на 16-летней полуузбечке Улкан-биби, закатив грандиозный пир в горном урочище Ак-Тенгри. Тогда-то Улкан-биби и унесла со свадьбы на руках своего уснувшего восьмилетнего мужа. Вот и стала она ему женой вместо матери, нося его до возмужания на своей тополиной спине.
Самую младшую жену — маргиланскую принцессу Нозик-пошшо, Мирзараим-бий любил за то, что та родила ему первого сына — настоящего тюрка — Обид-бия.
Первенец рос не по дням, а по часам, и в лихокровные шестнадцать лет уже рубил головы на полном скаку зазевавшимся пришлецам в Кара-кое. Все это забавляло и воодушевляло Мирзараим-бия, пока однажды Обид-тюркот, как прозвали его сверстники, не снес с гиком голову посланнику Кокандского хана Худояра, а это грозило уже многолетней войной. Насилу откупившись за безволосую, безусую и даже безбровую голову посланника шестидесятью головами крупно и круторогатого скота, двумястами головами баранов и коз, Мирзараим-бий решил, что настала пора решать с мальчишескими забавами сына. По этому случаю он, как горный сель, обрушился на равнинный Уш и в одночасье захватил в свою горную ставку всех этих сартовских мулл и мудрецов, дабы у себя в царской юрте устроить большой совет — кенгес: что же делать теперь с юнцом?
Муллы, как водится, говорили столь запутанно и велеречиво, что прямой и простодушный Мирзараим-бий пожалел о своих воинских хлопотах. Более того, ему казалось самым подобающим — запустить сюда на полном скаку своего Обида, который перерубил бы все эти головы как равнинную капусту, да так, что даже баранами не придется платить…
Но в это время один из Ушских богословов, видимо учуяв шелест крыльев Азраила над этой юртой и над своей шестиоборотной чалмой, воскликнул:
— О достопочтенный правитель гор, столь же высоких и вечных, как твое могущество…
— Говори прямо! — перебил его Мирзараим-бий.
— О выпрямитель речей, чья речь пряма и остра как меч…
— Ещё прямей! — закричал в нетерпении Мирзараим-бий.
— Здесь, в подвластных тебе горах, в ущелье Али-Шахид есть святой старец, который провидит поток жизни, и коловращение человеческой участи в нём…
Словом, выдал Мирзараим-бий им всем по барану в дорогу, а сам тут же отправился с сыном и с войском, как горный обвал, в сторону ущелья Али-Шахид.
Старик сидел под водопадом у следа, оставленного конём Пророка в ночь Миража вот уже шестьдесят и шесть лет. Бесконечные молитвы сделали его душу прозрачной, как воды горного водопада, а лицо — гладким, как отшлифованные водой камни. Лишь взглянув на Обида, он сказал:
— Болам, Сизни илм кутарипти![23]
Обид, этот буйный и неукротимый тюрок, вдруг присмирел от тихих слов старика, перебивших силу грохочущего водопада.
— Что я должен сделать, отец? — спросил, сойдя с коня юноша.
— Спросите у отца своего… У Вас большое и страшное будущее… Пусть он скажет, кем Вам быть…
Мирзараим-бий задумался. Он знал в жизни всего два занятия: быть киргизом или быть сартом. Если сын пойдет в него, то горы голов с эти горы Кючюк Аалая порубит он. И ведь ни скота, ни баранов не хватит у Мирзараим-бия, чтобы оплатить все эти головы.
Пойдет в свою мать — будет как эти сартовские муллы — одна путанная чалма вместо головы. И тогда Мирзараим-бий повелел:
— Пусть мой сын будет как ты!
Тотчас старик воскликнул:
— Аллах акбар — Аллах велик! — и внезапно исчез в грохочущем водопаде…
С той самой поры Обид-тюркот присмирел, как горный ветер на равнине. Тогда-то мать подарила ему книгу старинного поэта Нишоти «Хусну Дил», которую молчаливый и задумчивый Обид-бий читал теперь денно и нощно.
Вскоре Мирзараим-бий купил ему сорок худжр в Кокандском медресе, где Обид-тюркот выучился арабскому, персидскому, началам богословия и заучил наизусть Коран, вместе с хадисами от Имама Бухари. Тогда-то и получил он прозвище Обид-кори. Через семь лет отец отправил учиться Обида-кори в священную Бухару, где тот проучился еще 23 года.
Ему было далеко за сорок, когда он вернулся полным мудрости и печали в свой отцовский Эски-Моокат…
К этому времени все те же необузданные 16 лет исполнились Айимче — дочери сартовского казия всей волости — Саид-Касума-кази. Потомица Пророка, из рода тех, чьи мужчины садились на лошадь и выворачивали ей спину, если не переламывали хребет от тяжести, Айимча-пошшо была стройной, как долинные тополя, легка, как дыхание гор.
И вот однажды, когда она с сестрёнкой стирала белье у источника за их белокаменным домом, построенным кази после его посещения Скобелева, сестрёнка вдруг вспорхнула и запричитала, как птичка, встревоженная приближением зверя:
— Опа, опажон, ёпининг, онови киши улгур келяпти… Номахрам-та…[24]
Девчонке было всего десять, а потому она блюла обязанности взрослой с куда большим усердием, нежели лепила подобающие ее возрасту глиняные лепёшки.
Сестра взглянула, увидела приближающегося конного, и, не прекращая стирки, намеренно громко сказала:
— Ха, улдими ёпиниб, киргиз экан-ку[25]!
Так, полусарт-полукиргиз Обид-кори, проучившийся тридцать лет в лучших сартовских медресе у лучших сартовских мулл и богословов своего времени, был обезглавлен, подобно срезанному кочану капусты этой 16-летней девчушкой, существованию которой не требовалось никаких доказательств, обоснований или оправданий…
Дорого заплатил постаревший Мирзараим-бий за потерянную голову сына. Два года он отсылал баранов и коз в Скобелев, дабы Саид-Касум-кази окончательно повис на своих векселях, а потом уже, его задолжавшего и растерянного по новому времени, времени векселей и акций, фаэтонов и железных дорог, с помощью финансистов-евреев — Герцфельда и еще какого-то Манна, чьего имени не мог произнести даже изощренный Обид-кори, бий уговорил таки Саид-Касума-кази отдать свою восемнадцатилетнюю Айимчу за пятидесятилетнего своего сына, презрев все сословные и возрастные запреты…