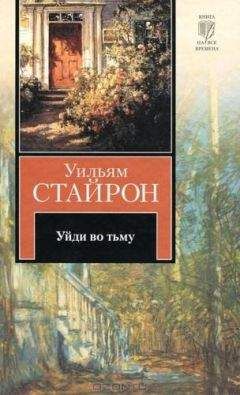— В купчихи, стало быть!
Такая у Ивана на сердце ярость, что не мила и Анютка, мокрым от слез лицом прижавшаяся к груди. Оторвать ее от сердца и швырнуть в студеную слякоть. Но тонкие девичьи руки как в замок взялись, не оторвешь.
— Ванюшка, погоди, послушай! Может, последний раз вижу тебя. Не пойду я с ним под венец. А силой поведут — в омут брошусь!.. Ванюшка, хоть ты пожалей меня!
Прикрыл ее полой кафтана, погладил по мокрым волосам.
— Плетью обуха не перешибешь… Чай, слышала батины слова: «За голытьбу беспортошную дочь не отдам. Ставь дом, заводи хозяйство — тогда сватай!»
— Ванюшка, родимый… а ты постарайся… Ведь ты мастер, золотые руки. Наживешь… А я ждать буду… сколь надо, буду ждать, Ванюшка! А то одна дорога, в омут...
…И вот у Ивана новые друзья–товарищи. Прежде на, одну колоду не сел бы, с ними рядом, а теперь друзья…
Плешивый Михеич, за, пьянство выгнанный из писцов заводской конторы, и голова всему делу — минский мещанин Иуда Каган, по указу Правительствующего Сената лишенный всех нрав состояния, битый плетьми и сосланный в Тагильский завод «за выпуск в народное обращение фальшивых кредитных билетов».
Не на доброе дело сгодились Ивановы золотые руки. Стал он клейма высекать Иуде Кагану для чеканки фальшивых целковиков.
Клейма были хороши. Каган крепко помнил, а спина его и того крепче, сколь опасна всякая небрежность в их прибыльном, но рисковом ремесле. Михеич каждый месяц ездил в Екатеринбург, где остались у него от лучших времен дружки. И после каждой его поездки Катай делил чистую выручку: себе половину, подручным своим по четверти.
Иван уже присмотрел себе дом пятистенный, железом крытый, с конюшней, сараем и прочими дворовыми постройками. Ко крещенью располагал обзавестись своим домом, а на масленой сыграть свадьбу. Ну, и, понятно, закинуть все свои клейма в заводской пруд и послать Иуду ко всем чертям.
Но как веревочка нм вьется, а конец недалек…
…Били и Ивана плетьми. Били на слободской площади. Палач дело знает. У него на свою работу тоже золотые руки. Сечет с протягом. После каждого удара душа от тела отрывается…
Но хоть до костей срывает мясо тяжелая плеть, того тяжелее было подумать: каково теперь Анютке?.. И куда ей пожелать пути: в постылые купеческие хоромы или в темный омут?..
Михеича и Кагана замертво в лазарет уволокли. Иван сам со скамьи поднялся. Выстоял, когда каленым клеймом пятнали ему левое плечо. И на своих ногах с площади ушел…
— Силен варнак! — удивился палач.
— Этот царю–батюшке сполна в рудниках отработает, — сказал, словно похвалил, командовавший экзекуцией пристав.
Хотел Иван выплюнуть ему свое проклятье, но, собрав всю силу, сдержался. И так не осталось живого мяса, на спине…
…Почитай, полгода пылил Иван по Московскому тракту. Далеко царь–батюшка облюбовал место для рудника своего каторжного. Всего насмотрелся Иван по дороге: и степей, и лесов, и гор. Одних рек больших и малых, поди, сотню переплыл и перебрел. Знал, что велика Россия, но чтобы столь места на белом свете заняла, не имел понятия… Шел и думал: почто же на таких‑то просторах, а жить человеку тесно?.. Сколь ни думал, ответа не сыскал. Видно, не по его уму загадка…
Как за Обь перевалили, пошли леса. Леса без конца и края. Фланговым в ряду идешь, ветки по плечу гладят. Стоит зеленая стена, в соблазны вводит. Один шаг в сторону… и нет тебя… Одна беда: дал бог вольный свет, а черт кандалы сковал. Далеко не убежишь.
До конца пути, до Благодатского рудника, что аж заБайкалом, добрел Иван один из трех. Михеич отдал богу грешную душу в Барабинских степях, а Каган остался в лазарете Иркутского острога… .
…Дневной урок — три пуда руды. Счет дням Иван потерял. Да и что их считать? День пройдет, ему на смену придет новый. И снова — три пуда руды…
Глухо стучат молота по камню, высекая искры. Звенят сломившие ноги кандалы. Чадит сальная плошка, освещая подземелье тусклым неверным светом. В забое в любую пору года душно, и спертый воздух теснит грудь…
Для Ивана три пуда — урок сходный. А Мирону Горюнову неподсильно. Не стар еще, да четыре года каторги надломили мужика, увели былую силу. А пыль от свинцовой руды насквозь все нутро прожгла. Перемогая стук молотов, рвется из груди его злой надрывный кашель. Молоток валится из усталых рук.
— Передохни, Мирон, — говорит Иван.
— В могиле наш отдых, — натужно отхаркиваясь, отвечает Мирон. — Урок не сполншнь, надзиратель рыло искровянит.
— Передохни. Подсоблю.
…Не легче и ночь в тюремной казарме. Теснота. Нары в два этажа. Подстилка — перепрелое сено. Вонь от него круто приправлена запахом мокрых портянок и давно немытых тел и дымным чадом самосада маньчжурки, который без останову курят три солдата и унтер, несущие внутренний караул в казарме.
На нарах вповалку каторжные. Кто храпит, кто хрипит, кто стонет…
В такие долгие тюремные ночи рассказывал Мирон Горюнов Ивану про жизнь свою на воде, про родные раздольные сибирские края.
— Черт бы ее не видал, вашу Сибпрь! — злобился Иван.
— Нет, паря, не знаешь ты нашей Сибири, — убеждал Горюнов. — Первое дело, всего вдосталь: и пашни, и покосу, и лесу. Опять же без бар жили, вольные хлебопашцы.
— То‑то вольно живешь.
— Грех да беда за кем не живет… Конечно, я у нас притеснение от казны… Да не вековечно же так, поди! Должна и нашему брату доля быть…
Иван в злобе только матерился.
— В нашем селе, — рассказывал Горюнов, — Урик село прозывается, двадцать верст от Иркутска, проживал на поселении барин один Михаил Сергеич. И фамилию знал я евоную, да запамятовал. Допрежь того каторгу отбывал он на рудниках. Может, вот в том самом забое, где мы с тобой.
— Как же это, барина да на каторгу?
— Из этих он, из государственных преступников. Слыхал, в Питере на Сенатской площади дело было?
— Не слыхал.
— Конечно, молод ты. Дело до твоего рождения было…
И долго рассказывал Горюнов, как подымались хорошие люди на царя, как хотели добыть волю народу.
Иван слушал нехотя, сказал:
— Барская затея. Что царь, что барин, что купец. Все на нашу голову.
— Так оно, — согласился Горюнов. — Однако и бары разные бывают. Вот Михаил Сергеич говаривал, покуль хоть один зуб во рту, и тем бы, говорит, загрыз всех супостатов, притеснителей народу…
— Что ты со своим Мнхал Сергеичем! — разъярился Иван. — Какая мне корысть, что он такой пригожий! Я‑то в кандалах! Да и ты тоже…
— Эх, Ванятка! — вразумлял Горюнов. — Ты другое в толк возьми. Кому жить хуже? Ему — барину, или мне — мужику? Дак по што же мы терпим?
— Плетью обуха не перешибешь. Ты вот, Мирон, не стерпел, а что толку?
— Один, Ванятка… А надо всем миром.
— Нет! — сказал Иван, как отрубил. — Всяк за себя, одни бог за всех. Я так, Мирон, решил. Тише воды, ниже травы буду. Надзирателю пятки лизать стану. Снимут кандалы — убегу!
…И убежал… Не скоро и не сразу. Выслужил доверие. Сняли кандалы. Перевели как мастерового в Петровский завод. Горновым к печам поставили. Жить бы там… Баба нашлась, пожалела. В дом брала…
Можно бы и в том дому остаться. Кабы не маячил перед глазами полукаменный с резными наличниками купецкий дом на Большой улице в Тагильской слободе.
Нет… пока жив да сила есть, добраться до того дома. Хоть и полукаменный, сгорит, однако, ежели подпалить со старанием… А если в том доме Анютка?.. Колн в том, Так уж по Анютка, а Апиа Тимофеевна, купчиха Заварзина. Стало быть, разошлись дорожки: одна в гору, другая в овраг.
…Через Байкал рыбаки перевезли. Врал что‑то им нескладно.
— А нам с тобой, прохожий, не робят крестить, —-сказал седой кормчий, и по лицу его, продубленному солнцем и ветром, пробежала усмешка. — Чей ты и откудова, не наша забота. Не обробеешь волны, садись!
Крутую волну развело в ту ночь. Тучи заволокли все небо. И что вверху, что внизу — одна чернота. Старик велел весла убрать и лечь всем.
— Теперя, паря, держись за дно, — сказал он Ивану. — Да ежели не забыл, прочитай молитву. Всяко может быть…
…Иркутск обошел стороной. Побывал в Урике у Пелагеи Горюновой. Передал поклон от Мирона. Заплакала баба в голос. Не сладка жизнь одной с четырьмя. Подмоги ждать неоткуда. Кому охота с каторжанкой связываться. Высушило бабу, одни жилы вкруг костей обернуты.
Испекла ему Пелагея хлеба на дорогу. Парнишка старшой, весь в Мирона, носатенький, лодку где‑то раз добыл. Спустились с ним по речке Куде до Ангары. И там Иван один поплыл. Ночью плыл, днем в кустах но островам отсиживался.
И было бы плыть без останову…
…Шел лесом, не выходя на дорогу, с опаской, чтобы в темноте не провалиться в яму или не напороться на корягу.
Вдруг окрик:
— Эй, прохожий.
Остановился. Потом увидел в просвете над кустами казачьи фуражки и побежал что было силы и резвости. Забыл, что он не беглый каторжник Ванька, родства не помнящий, а вышедший на поселение мастеровой Еремей Кузькин.