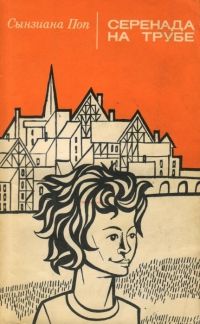— Что? — спросил он и скосил на меня глаза.
— Хряк.
— Sag mir auf deutsch[45], — попросил он, — я не так уж хорошо понимаю румынский.
— Нет, понимаешь. Ты все ругательства знаешь наизусть.
— Но этого не знаю.
— Это не ругательство. Это слово.
— Ну черт знает что это за слово, я никогда такого не слышал.
— Зато теперь слышишь: хряк. Что, не нравится?
— Нравится. Как будто поет скатофаг. Я разинула рот.
— Что ты сказал?
— Скатофаг. Это я. Я говорю животом.
— Повтори еще раз, — попросила я.
— Пожалуйста. Скатофаг, — сказал он, и наступила тишина.
Слово одеревенело и повисло у нас перед носом, Шустер лежал на спине и улыбался, он проглотил целое стадо ослов и воображал, что вышел на первое место со своим словом. И вышел.
— Смотри, как бы ослиный хвост не застрял у тебя в горле, — сказала я. — Он не усваивается. Как бы не было у тебя неприятностей с твоим скатофагическим животом. Как бы не было у тебя колита. Как бы тебе не спровоцировать рвоту. Как бы не…
Но какие бы сложные слова я ни говорила, «скатофаг» Шустера продолжал висеть на том же месте, у меня перед носом. Он перешиб меня, ясно как день. Достаточно было посмотреть, как он улыбается своими свинскими толстыми губами, чтобы это понять. Но он приоткрыл глаз и спросил меня очень участливо:
— А почему ты прогуливаешь мат.? У тебя ведь с фрау Ашт все шло гладко? Фрау Ашт не давала тебе задач?
— Потому, чтобы ты меня спросил.
— Так ведь я тебя спросил, — сказал он. — Я тебя спросил.
— Ух, Шустер, до чего ж ты сегодня умный, что с тобой? Керосину напился? Не иначе как мамочка подлила тебе в молоко керосину, чтобы смазать твой мозжечок.
— Нет, — сказал он. — Нет. Я завил себе мозги на бигуди.
— А, значит, ты был у парикмахера? Ну, так бы и сказал… Вот почему ты выражаешься перманентно, с завитушками.
— Холодная, — крикнул он. — Холодная завивка. Перманент Велла. Я хочу говорить с начесом, иногда с пробором сбоку или даже с пучком.
— А с конским хвостом не хочешь?
— Если ты уж непременно настаиваешь, могу доставить тебе такое удовольствие, хотя полагаю, что ты предпочитаешь мизампли[46].
— Что ты сказал? — спросила я и тут же пожалела. «Мизампли» одеревенело и повисло у меня перед носом рядом со «скатофагом».
— Тебе полезно сидеть в уборной, Шустер, каждый раз, спуская воду, ты умнеешь.
— Да? — сказал он и засвистел жутко фальшиво.
А потом:
— Ты не ответила мне на вопрос, почему ты прогуливаешь математику. У тебя ведь здорово шло. Что–нибудь случилось?
Не было никакой охоты именно ему давать отчет, так что я набрехала.
— Да. У меня умерла прабабушка. Я ищу ей место на кладбище.
— О! — сказал он и сел на свой широкий зад. — Мне очень жаль, правда, жаль.
И он действительно жалел. Это было ясно по тому, как размокла вся его прическа.
— Послушай, Шустер, — сказала я, — убирайся отсюда. Если ты так разнюнился из–за этой вещи, то мне уж просто надо бросаться вниз головой. Какая муха тебя укусила, ты что, спятил?
— Мне жаль, мне очень жаль, — твердил он и еще больше размок.
— Слушай, я наврала, понимаешь?
— Нет, не наврала, — сказал он. — Это за километр видно. И мне жаль.
— Что, тебе? Тебе меня жаль? И ты думаешь, я дошла до того, что такой, как ты, может меня жалеть?!
— Я очень жалею, — сказал он и уткнулся головой в колени.
Никогда я не была в более тяжком положении. Видеть, как тот, кого ты считала свиньей, плачет.
— Послушай, Шустер, честное слово. Я наврала. Так и есть, моя бабушка умерла, но эту историю с кладбищем я выдумала. Честное слово. Я удрала из дому. Вот что.
— Что? — спросил он и испугался так, что вся его прическа тут же пришла в порядок. — Как так удрала?
— Ладно, очень просто. — И я ткнула правой ногой рюкзак. — Хочу быть свободной. С меня хватит.
— Bist du verruckt? — спросил он. — Ты окончательно спятила? Как это свободной?
— Ладно. Frei. Фернандо Пала, свободный человек. Ты про это дело никогда не слышал?
— А, ты хочешь снять фильм! — сказал он и успокоился. — Это идея. У тебя ноги — блеск.
— Убирайся, — погнала я его и почувствовала себя очень хорошо, наконец–то Шустер стал похож на дурака. Я очень испугалась, не слишком–то я люблю сюрпризы такого сорта, я ни за кого не могу взять на себя моральную ответственность. А Шустер всегда был только дураком. Дураком и ничем больше.
— Ну, видишь, — сказала я, — наконец–то и ты наш. Я серьезно хочу сделать фильм, вот честное слово. Я очень фотогенична. Эти рыжие волосы выходят невероятно синими, а что может быть прекраснее синего, ослепительно сияющего чуба, а?
Он разинул рот. Настала моя очередь пересчитывать его зубы: его слова, заброшенные, треснули, разбились, как елочные игрушки.
— У тебя фантастические зубы, — удивилась я. — Все до одного. Может, я найду и для тебя роль статиста для Смайл[47].
— О'кей, — сказал он и стал вдруг говорлив, как голубь. — Непременно сообщи мне, я буду тебе невероятно признателен.
И он удовлетворенно заворковал себе под нос. Но в этот момент снова раздался звонок, и Шустер встал.
— Я пошел, — сказал он. — Химию я не прогуливаю. Я себе этого не позволю. Я не снимаю фильм. Но желаю тебе успеха. Салют.
— Шустер, — попросила я. — Скажи мне, пожалуйста, еще раз эту фразу.
— Нет, — сказал он. — Лучше я буду дураком, так лучше. Не можешь же ты все потерять. Это несправедливо. Честное слово.
— Шустер!..
— Все, — сказал он, — auf Wiedersehen. Надеюсь, что ты будешь иметь успех со своими апельсиновыми волосами. И если хочешь знать, у тебя ноги — блеск, это уж точно, ты добьешься свободы.
— Ты свинья, настоящая свинья.
— Конечно, — сказал он, — и прощай! До приятной встречи.
— И еще ты слон, тише, как бы мертвецы не встали из могил.
— И слон, и все что хочешь, — сказал он.
— Шустер! — крикнула я. — Шустер!
Но он исчез, а я ужасно хотела, чтоб он еще немного побыл.
Дорога в город начиналась у моих ног. Дорога с бесчисленными поворотами, она обрывалась и начиналась вновь, шла полого, змеилась по склону холма, разветвлялась на тропки, потому что склон был отвесный, петляла и пробивалась сквозь заросли кустарника. Это был лабиринт. На одном конце — город, на другом — я. Сидя на стульчике, я царила над этим пейзажем. И он разворачивался передо мной все дальше и дальше, город отбрасывал на меня свой свет и манящие шумы, я так рвалась к ним, живя во дворе из камня, а теперь они были подвластны мне. Я была свободна. В запасе был день, но один день может стать иногда целой жизнью, и должен был быть целой жизнью день перед отъездом в горы. Ничего не хотелось, только встать со стула и свернуть в комок эту спутанную ленту дороги, измерить ногами расстояние до того места, где мечта до конца ее дней превратится в реальность. Мысли мне надоели, нужны были люди, там, на кладбище, мне снова стало ясно, что без них я не могу существовать. Они были мне так нужны, но я их не находила и потому теперь была полна решимости отыскать их за тот короткий срок, что оставался до моего отъезда. Мне нужны были воспоминания, чтобы унести их с собой, хотя осени у моих ног, осени, тронутой плесенью и тяжелым золотом, казалось, хватило бы до конца моей жизни. По дню на каждый цвет и один–единственный — на солнце, которое тащили через всю декорацию, как паяца, за веревку. Стоять и смотреть, расщепляя над городом свет, разделяя его рукою, радоваться на все способы, которыми ноги помогают поддерживать землю, на все средства, которыми зрение помогает вылепливать формы, на то, как слух помогает возникнуть движениям. Мой указательный палец нацелен на город.
Город тоже грелся на солнце и как будто дышал или будто смотрел на меня со всех сторон. Шумы носились над ним и вдруг резко меняли направление, рассыпая искры. И только запах людской стоял неизменно, он клубился паром — этой ранней осенью улица потела, и ее не прикрыли крышкой.
Я встала и двинулась вниз. И не смотрела назад, и только много позднее, когда дорога кончалась, крепость, и школа, и старое кладбище засияли, как в сказке, а город, к которому я направлялась, стал гаснуть.
Я шла вдоль стен по горло в тени. Только голова моя, отрезанная светом, плавала взад–вперед сама по себе, как мяч, упущенный в реку. Рыжий резиновый мяч, очень рыжий и совершенно потрясающий. Из тех, что забивают цветные голы, когда вратарь лежит на земле.
Мне хотелось с кем–нибудь поговорить. С кем угодно. Но все имена, приходившие в голову, отскакивали назад — я не знаю куда, в какую–то гостиницу для знакомых, ты звонишь туда, спрашиваешь господина Попеску, а вместо него выходит дама с серебряными зубами.