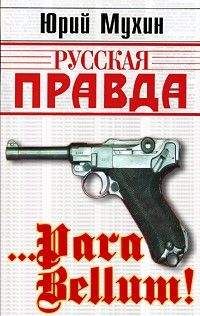— Вылазь, фашист! — говорит один из них, белявый, без шапки, пожалуй, одних лет с Вилли.
Вилли выбирается из канавы. Он теперь совершенно спокоен и, понимая, что настала последняя минута его жизни, чувствует неловкость оттого, что грязный, в испачканной одежде, что вовсе не похож на солдата.
— Был там? — парень показывает рукой на село, от которого еще поднимаются столбы сизого дыма.
Вилли кивает головой.
Гремит выстрел, и в последний свой миг Вилли видит зеленую равнину, окаймленную синеватым лесом, — местность, которую ему часто приходилось видеть и на родине.
День тревожный: дымы вокруг местечка поднимаются в разных направлениях. Старший лесничий Лагута по месту дымов почти зрительно видит деревни, которые горят. С северной стороны — Мохово, Пилятичи, Пажить, Литвиново, с западной — соседний с местечком лесной хутор Лубы и Нехамова Слобода, с юга — Кобылковичи, Будное.
Настроение у Лагуты отчаянное. Старый дурак, жизнь прожил, а ума не набрался. Занять теперешнюю должность заставили обстоятельства. Но зачем он нюхался с немцами, налаживал выпивки, гулянки? Люди видели это, глаза им не завяжешь. Теперь он пропал...
"Проклятая жизнь, — думает Лагута. — Крутит, вертит человека, как в водовороте, и, куда она повернет, не разгадаешь".
Он сделал ставку не на ту лошадку. Никакие немцы не хозяева, ибо кто, если не совсем выжил из ума, будет так безжалостно жечь, уничтожать добро, что создавалось веками? Даже внуки, правнуки тех, кто сегодня горит в огне, не простят фашистам. Они здесь не удержатся, так как подняли руку не на партизан, которые взрывают рельсы, поезда, а на народ.
У Лагуты вспыхивает лютая ссора с женой. Вокруг пожары, тревога, а она повесила в саду гамак, разделась чуть не догола, качается, стерва, и еще сигареткой попыхивает.
— Дылда! — ревет разъяренный Лагута. — Нашла время нежиться! Кому свои мослы выставила? Не видишь, что делается?..
Испуганная жена мигом вываливается из гамака, торопливо одевается.
— Чего раскричался? Тебя же не трогают.
— Тронут. Не эти, так другие. Ты тоже для этого постаралась. Тебе все мало. Весь свет готова заграбастать. Зачем было столько сеять? Компании тебе нужны были, гулянки? Подожди, вылезет боком!..
— Разве тебя увольняют?
— Дура! Орясина проклятая! Неужели ты ничего не видишь? Чтоб с завтрашнего дня прислуг в доме и духа не было. Дети тебя обсыпали, супу на две души не сваришь?
Лагута понимает, что кричит напрасно, — больше всего виноват он сам. Жену, если б имел ум, можно было давно приструнить.
В Крамеровом доме сходятся самые близкие люди — старший лесничий Лагута, местный лесничий Боговик, мельник Забела. Сузился круг друзей бургомистра. С того времени, когда драпанул в лес Лубан и остальные, многие из местных начальников, которые раньше набивались на дружбу, позабивались в норы. По служебным делам в кабинет приходят, морочат голову часами, но искренности в их разговоре бургомистр не чувствует. Он ничуть не удивится, если вслед за Лубаном побегут просить милости у партизан еще кое-кто.
Внутренняя неудовлетворенность собой, всем окружающим — такой жизнью Август Эрнестович живет скоро два года — достигла особенной остроты.
Август Эрнестович понимает, что человек в водовороте войны себе не хозяин, его бросает, носит, как сухую листву на ветру. Даже у него, бургомистра, фактически нет никакой власти. Он хотел, чтоб люди жили мирно, тихо, а льются реки крови, старался, чтоб не было голодных, разутых, раздетых, а район жгут, уничтожают все дочиста. Его друзья-приятели по несчастью, собравшиеся теперь в его доме, всего не знают, он знает больше. В районе было шестьдесят деревень и сел. Хорошо, если останется хоть несколько. За прошлый и нынешний год сожжено, расстреляно самое малое пять тысяч — четвертая часть всего населения. В одних Кобылковичах — селе, за которое он не боялся, так как оно лежало вдоль шоссе, немцы там ежедневно бывали, — сгорело вчера более тысячи... Кто и когда такое простит? Пройдет двадцать, тридцать лет, пока поднимутся сожженные села, а мертвых никто не подымет. Фамилия его, Крамера, будет висеть над здешними людьми, даже над теми, кто придет в жизнь позже, как проклятье, им будут пугать детей. А разве он виноват? Разве не просил, не уговаривал, не доказывал, что в такой страшной войне нельзя играть с огнем. Немцы, должно быть, просто зацепку ищут. Хотят уничтожить народ.
Немцы проиграют войну. Теперь он, Крамер, в их победу не верит. Да и какой мир построят они, если даже удастся одолеть русских? Они хвалятся, что Россия отстала от Германии на сто лет, приводят в пример здешнее бездорожье, деревянные хаты, плохую одежду. Он лично считает, что Германия отстала в чем-то другом, более важном, чем дороги и хаты. Жечь детей, женщин, стариков русские ни при каких условиях — даже если бы летело в пропасть их государство — не будут. Он может подтвердить это под присягой. Каменная, застроенная заводами, городами Германия потеряла уважение к человеку. Но когда немцы будут отступать, он уйдет с ними. Другого выбора у него нет. Он — немец, над ним, как надо всеми немцами, висит проклятье...
Те, что собрались в Крамеровом доме, никогда не забудут взгляда, каким окидывает их в этот страшный день хозяин. Это глаза человека, который прощается с жизнью. Крамерово лицо смягчилось, на нем как бы лежит печать покоя, всепрощения, понимания всего, что происходит в безумном, охваченном войной мире. Запавшие от бессонницы глаза излучают доброту и в то же время светится в них неизмеримая тоска.
Бургомистр достает из шкафа графин с настойкой, приносит стаканы, вилки, тарелку с мелко нарезанными кусочками сухой колбасы.
— Выпьем, господа. Может, не так много времени нам осталось собираться. — Крамер наливает каждому по половине стакана, пьет сам, вытирает тыльной стороной ладони губы. — Простите мне, если что не так. Корабль, которым без моего согласия поставили меня управлять, идет ко дну. Теперь никакой я не капитан...
Взволнованные необычностью момента и самим тоном речи бургомистра присутствующие затаенно молчат.
— Района нет, — продолжает бургомистр. — Нет больше деревень, лесничеств, мельниц, волостей, школ. Некем руководить. Восстанавливать тут все будем не мы, а другие люди. Нас они обвинят. Они взрывали поезда, вредили немцам, а мы помогали их врагам.
Всеобщее унылое молчание нарушает Забела:
— Как же так можно, Август Эрнестович? Разве народ не понимает добра? Власть меняется, а люди остаются. Пусть у того язык отвалится, кто скажет про вас плохое слово.
— Подождите, Панас Денисович. Дайте закончить мне. Когда покатятся отсюда немцы, власть будет слушать не нас с вами, а партизан. Они, если хотите знать, заслужили, чтоб их слушали. Раньше я их не понимал, а теперь понимаю. Партизаны ненавидят немцев и не могут сдержать своей ненависти. Как разъяренный до беспамятства человек не может не ударить другого человека. Вот и вся мудрость. Раньше я так думал: тут мирное население, фронт далеко, если партизаны такие смелые, пускай пробиваются на фронт. Но так не может быть. Никогда партизаны от деревень своих, семей не пойдут. Теперь район спалили, уничтожили, но все равно они будут действовать.
Лесничий Лагута, Боговик растеряны. Будто сам бургомистр призывает их уходить в лес. Столько кричал, угрожал партизанам расправами, а теперь дает задний ход. Немного опамятовавшись, Лагута спрашивает:
— Что, Август Эрнестович, и нам поступить, как Лубан?
— Что вы, Петр Петрович? Я не о том. Сам в партизана не перекрещусь и вам не советую. Я о войне. Она не может быть на свете вечно. В войну люди делаются безумными. Перестают быть людьми. Вы кровью рук не запачкали, вас большевики, может, не обвинят. А моя песня спета. Мне сожжения деревень, уничтожения людей не простят, так как бургомистр в ответе за все. Я только об одном прошу: если будут обо мне спрашивать, скажите, что Крамер хотел, чтоб и в войну люди оставались людьми. Ошибался, думал, делал не так, как надо, но совестью не кривил. Люди опьянены войной, своими обидами, потерями, и это не скоро поймут. Но когда-нибудь поймут. Не может быть, чтобы обвиняли человека за то, что среди сплошной грязи, крови, свинства он хотел оставаться человеком и, чем мог, помогал другим.
Нескладная, длинная фигура Крамера, его опущенные плечи, осунувшееся лицо тем не менее дышат какой-то внутренней силой, готовностью перенести самое худшее, и, почувствовав это, присутствующие сами немного успокаиваются.
Чему быть, того не миновать...
Август Эрнестович теперь не боится бессонницы. Ночь — как раз та желанная пора, когда он остается наедине с собой и как бы еще раз, вспоминая каждую мелочь, бродит по пройденным дорогам.