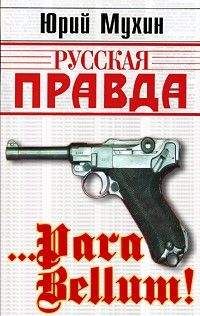Некоторое время едут молча. Небо усеяно звездами, взошел месяц, дорога просматривается хорошо. Ночь, однако, прохладная, Бондарь, одетый только в военный китель, раз за разом подергивает плечами.
— У меня, брат, грех на душе, — продолжает Вакуленка. — Теперь немного затянуло, забылся, а в первую зиму места не находил. Мою семью тоже сожгли. Жену, сына. Я с ними не жил, разошелся еще в тридцать шестом. Строгача с меня за это перед самой войной сняли. Прилепился к одной стерве. Собирался в семью вернуться, а тут — война. Новая нареченная в тыл драпанула. Ты, Бондарь, не обижайся, что на тебя кричали. Октябрьские командиры не любят вас, кто позднее в партизаны пришел, за то, что ваши семьи целы и что горя настоящего вы не видели. Эшелонами тут не докажешь. У того же Лежнавца отца, мать, троих детей и жену расстреляли, у Деруги жену и детей. Знаешь, песня есть: "Наши хаты спалили, наши семьи сгубили..." Это о нас вот такая песня. Сложена еще в первую зиму, когда Октябрьский район уничтожали. Немцев прогонят, а как нам жить? Если бы мне хоть лет тридцать было, а то ведь сорок пять...
— Есть и другие причины, — возражает Бондарь. — Партизанщина. Был бы я в армии... Тогда, брат, была бы другая песня.
— А по-моему, лучшее, что у нас есть, так это партизанщина. Народ силу показал и то, что он любит советскую власть. Когда белорусы на такую войну подымались? Привыкли на них глядеть как на тихих, покорных. Известно, болотные, лесные люди. А они видишь что натворили. Вся Беларусь кипит как в котле. Вот пожгли наши села, загубили столько людей, большая половина области, считай, уничтожена, а люди, погорельцы несчастные, слова плохого нам не сказали. Кормят, поят нас, будто ничего не произошло. Понимают, что иначе нельзя. Если пошел на врага — о хате не думай. Золотой у нас, Бондарь, народ. Только пожить ему по-людски не пришлось...
— Но на войне нужна дисциплина.
— Да брось ты про дисциплину! Ну, немного не любят вас, лейтенантов, капитанов, за то, что отступили в сорок первом, так что? Что ты хочешь от мужицкого войска? Вояки, сам знаешь, не очень. Но зато другим взяли всюду они, как муравьи, что ползают по всему лесу, а тащат в одну кучу. Вот едем мы с тобой и никакого черта не боимся. Полицаев разогнали, коменданты в норы зашились — наша земля. Армия под Курском от немца отбилась, а мы — тут. Автоматы, которые сегодня не поделили, — глупость, мелочь. Не автоматами партизаны сильны...
— Что ты предлагаешь, Адам Рыгорович?
— Я вот что скажу тебе, Бондарь. При нынешнем положении с новым командиром ты не сработаешься. Как я с Лавриновичем. Сам привык командовать, а тут новая метла. Хоть не очень нас с тобой слушали. Однако же гордость есть. Я вот переломил себя, пошел на бригаду и тебе советую взять пример.
Бондаря гнетет неизвестность, и сегодняшний взрыв на совещании штаба — предвестник этой неизвестности, которая неуклонно надвигается. Вакуленка это понимает лучше, чем кто другой.
— Сделаю, как ты. Горбылевская бригада разрослась, надо делить.
— За это хвалю, Бондарь. Молодец. Момент чувствуешь. Главное понять, кто мы такие. Все мы — я, ты, командиры, которые сегодня артачились и драли горло, — все мы уполномоченные. Нас на какое-то место поставили, и нас могут снять. Как о том колхозном бригадире до войны говорили — сначала выдвинули, а потом задвинули. Как, к примеру, я прожил свою жизнь? Шел туда, куда посылали. Кем, брат, я только не был! Сначала секретарем сельсовета, потом год работал в волости, заведовал избой-читальней, в коллективизацию председателем колхоза два года был, потом перебросили на сельсовет. Работал в сельпо, в райпотребсоюзе, а как проштрафился — послали заведовать мельницей. Директором льнозавода полгода побыл, последние четыре года — на заготовках. Как началась война, месяц поруководил райисполкомом...
Про большевиков, брат, только наши враги плетут, что мы захватили власть, стали новыми панами, диктаторами. Никакие мы не паны и не диктаторы, а уполномоченные. Идем туда, где нужны, и наша задача выполнять все, что приказывают. Я вот партизанство начинал, возвысился, аж голова закружилась, а как цыкнули — и сел на свое место. Старая закваска в один момент сработала. Со всеми так будет. Артачатся комбриги, носы позадирали, вольницу почуяв, а сами того не знают, что еще рады будут, если их после войны поставят на сельсовет или колхоз. Такая, брат Бондарь, наша жизнь, из нее не выскочишь. Может, и хорошо, что она такая.
Я еще вот что хочу тебе сказать. Народ нас ценит, уважает, и надо постараться, чтобы такая память о нас оставалась навсегда. Немцы села пожгли, скот забрали, но в Германию его не успели вывезти. Половина его в Росице да еще в Батьковичах. Понял, куда гну?
— Как в прошлом году в Литвиновичах?
— Надо постараться сделать лучше. Чтоб ни одна сука не тявкнула.
Лагерь горбылевцев, как и в прошлом году, когда отряд только начинал действовать, в лесу. Но под деревьями не одинокие палатки, а целые ряды землянок, шалашей, навесы для коней, посыпанные желтым песком дорожки. Сосны, под которыми раскинулся лагерь, были когда-то посажены под шнур, по пашне, но с течением времени порядок нарушился и теперь едва-едва просматривается.
Соединение снова имеет постоянного руководителя. Волах, который прилетел вместе с целым штабом помощников, человек в республике известный. Занимал высокие должности в Минске, на Полесье не раз приезжал — наблюдал за мелиоративными работами.
Двухчасовой разговор с глазу на глаз, возникший у начальника штаба с новым командиром соединения, успокоил Бондаря. Волах — среднего роста, широкоплечий, с энергичным приятным лицом — человек проницательный. В то же время на дела, сложившиеся в отрядах, бригадах, смотрит критически, успехи недооценивает.
С другой стороны, секретарь обкома намеченные операции одобрил. Бондаря будто бы даже возвысил, приказав ему взять под личный контроль Восточную и Южно-Припятскую зоны. Возглавлять разгром немецкого гарнизона в совхозе назначил батальонного комиссара Гуликовского, который прошлой осенью командовал объединенными отрядами, когда взрывали мост через Птичь.
Волах берет вожжи в руки. Пока что он задержался в бригаде Гаркуши, хочет разобраться в том, как погиб Лавринович, с поведением Михновца. Штаб соединения оставил при Горбылевской бригаде, но надолго ли?
Странное настроение у Бондаря. Чувствует, что какой-то круг в его жизни замыкается, роль, которую он играл тут, в родных лесах, приближается к концу. И дело не только в том, что прислали нового командира, который, по всему видно, не собирается ни с кем делить свою высокую власть, а в чем-то несравненно большем, в новом повороте огромнейших событий войны. Немецкая армия отступает, и Курск — это теперь ясно как божий день — был отчаянной попыткой фашистов вернуть утраченную еще зимой инициативу. Эта попытка вдребезги разбилась, и Бондарь не верит, что немцам удастся прочно закрепиться на Днепре или в каком-нибудь другом месте. Через два-три месяца Красная Армия придет сюда. Что он, Бондарь, будет делать потом? Куда выведет его судьба? Ему прислали мундир полковника, но для армии он человек потерянный. Далеко вперед ушла армия в военном искусстве. Судя по всему, там, под Курском, была огромная танковая битва. Ни масштабов, ни организации современного боя Бондарь не знает. Он даже не знает, откуда взялись эти тысячи танков, которых не было в сорок первом году, когда в нормальных условиях работали военные заводы, а немцы не успели еще захватить огромных территорий. Ни дивизией, ни даже полком командовать в современном бою он не сможет, а на батальон полковников не ставят. Да и потянет ли он теперь батальон?..
Бондарь пойдет на бригаду. Его место — в партизанской армии. Другого не дано. Только бы с Росицей рассчитаться. Лесная армия, какой он командовал, в какой-то мере виновата перед населением. Оно поило, кормило партизан, и надо отбить коров, которых забрали эсэсовцы. Корова кормилица для крестьянина...
По случаю победы под Орлом и Белгородом устроили небольшое пиршество. На заросшей можжевельником поляне, немного поодаль от шалашей и землянок, собрались местные командиры.
Ораторов хоть отбавляй. Встает со стаканом Вакуленка, за ним Большаков, затем — по заслугам, по стажу — младшие командиры. Хорошо все-таки, что собрались. Сколько все они, кто сидит за столом, ждали светлого часа, когда оттуда, с востока, прилетят счастливые вести. Сколько передумали, перестрадали. Не секрет ведь, что год назад, когда немцы рвались к Волге, некоторые допускали, что война может быть проиграна или затянется на десятилетия. Оружия перед врагом, однако, никто слагать не собирался. Если же создастся безвыходное положение, тесно станет здесь, то намеревались податься на Урал, в сибирскую тайгу, и партизанить там хоть до конца жизни.