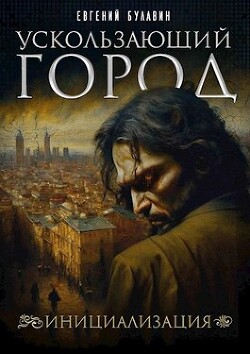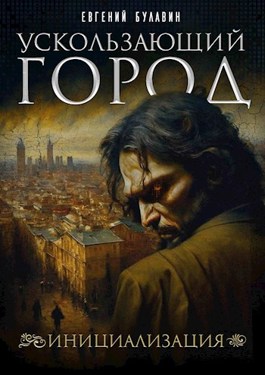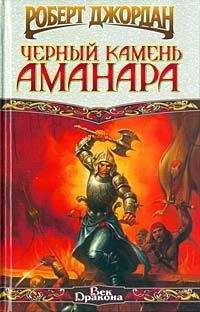Брат «Ангела», вероятно, не мог определиться, кем хочет стать: художником или скульптором. Об этом свидетельствовали сваленные в кучу бюсты, натюрморты, портреты, пейзажи и какая-то метафорическая мазня. На каждом произведении стояла одна и та же щегольская подпись, хотя ни одно не было завершено.
Инокентий приоткрыл дверцу шкафа у стены. Внутри лежали две восковые фигуры: одна уже готовая, а другая только наполовину. Он с интересом пригляделся к готовой. Это был молодой мужчина с золотистыми локонами, облачённый в белую наволочку, небрежно стилизованную под тогу. Стояла фигура по стойке «смирно», глядя лучистыми глазами куда-то сквозь непрошеного гостя. Инокентий ткнул фигуру пальцем в глаз. «Фигура» айкнула и схватила Инокентия за горло. Инокентий попытался вырваться, но мужчина легко сбил его с ног и прижал к хрустящему полу. Из складок своей наволочки он достал платок и прижал его к носу наглого гостя. Жгучий сладковатый запах просочился прямо в сознание. Дёрнувшись несколько раз, Инокентий ослаб и провалился в глубокое небытие…
Боль, крики, всполохи. Металл в вене.
Он не сразу понял, что пришёл в себя, ибо не мог пошевелиться в кромешной тьме. Лишь слух выхватывал тишайшие, на грани реального, григорианские напевы. Дверь лязгнула так неожиданно, что Инокентий вздрогнул всем телом. Вспыхнул яркий, слепящий свет. Неизвестный прикоснулся холодной влажной рукой ко лбу и засунул в рот горлышко пластиковой бутылки. Тёплая вода хлынула в пересохшее горло. Не дав сделать и пару глотков, бутылка исчезла. Свет потускнел.
Проморгавшись, Инокентий увидел его — человека, которого по дичайшей глупости принял за манекен. Неестественно чистые глаза всё так же смотрели куда-то сквозь пленника. Наволочка-туника едва заметно фосфоресцировала в полутьме. Инокентий скосил взгляд. Рядом лежал Фокусник, прикованный к кушетке. Из уголка рта у него капало что-то тёмное и вязкое. Подле, привязанный к стулу, сидел поразительно похожий на обезьяну человечек — сходство это подчёркивали близко посаженные глаза, крупные уши и характерные бакенбарды на две трети лица. Кажется, оба «фокусника» были без сознания.
— Говори правду, и будешь пощажён! — пророкотал человек.
Этот тип обладает голосом артиста, не чурающегося трибуны. Инокентий видит, как Валерий взбирается на один из обеденных столов и разражается проникновенной речью, которую обрывают четыре санитара и врач со шприцом успокоительного. Это был его третий день в Гоголевке.
— Смотри на них, — продолжил «Ангел», широким жестом указывая на «фокусников». — Рыжему пришлось пустить кровь, а мелкому — разбить челюсть. Всё потому, что они лгали. Ты понимаешь меня?
— Понимаю…
— Это мы посмотрим.
«Ангел» пропал из виду и вернулся с парой напечатанных листов формата А-4.
— Кто ты? — вопросил он требовательно.
— Инокентий. С одной «н». — «Зачем я всегда это уточняю?»
— Я не спрашиваю имени и особенностей его написания. Кто ты?
Инокентий перевёл дух:
— Судия.
Немигающий взгляд «Ангела» фокусируется на его лице. Инокентий поспешил отвести глаза, чтобы не видеть эти чистые, сверхнормальные радужки.
— Повтори, — потребовал «Ангел».
— Я — Судия.
«Ангел» швырнул листки на пол и начал ходить кругами, схватившись за голову. Инокентия замутило, и он закрыл глаза.
— Ты не врёшь.
Инокентий услышал, как «Ангел» подвинул стул к нему поближе. Сел. Запахло миррой и лежалыми яблоками.
— Но знаешь ли ты, кто такой Судия?
Инокентий открыл рот, но не издал и звука.
— Нет, — обронил, наконец, он, только чтобы выбраться из тугодумной пустоты в голове.
— А я скажу. Это тот, кто судит. — «Ангел» разразился металлическим смехом. Всё очевидное кажется ему смешным. — Капкан… силки… ловушка! Ловушка! — как ребёнок он радуется, что вспомнил подходящее слово. В мире, где всё слишком сложно, радоваться можно только мелочам. Они чисты в своей простоте и не имеют привкуса. — Это ловушка, Судия. Не суди, и не судимым будешь. Так говорят в народе.
«Почему у него не пахнет изо рта? Ничем…»
— Зачем ты пришёл ко мне, Судия? — мягко, почти ласково спросил «Ангел».
— За местью, — услышал Инокентий свой суховатый ответ.
— Это не совсем правда. Это… твоё понимание.
Подскочив на ноги, «Ангел» схватил свой стул. Инокентий улавливает глухой удар и треск дерева. Приоткрыв глаз, он видит, как лицо безумца озарила внезапная догадка.
— Это они прислали тебя? Зачем?!
— Покарать виновного, — тоном Йишмаэля ответил Инокентий.
— Все виновны. Различна только степень вины. — «Ангел» неожиданно упал на колени. На его глазах засияли слезы. Его грудь сотрясалась в беззвучных рыданиях. Этот гигант в человеческом теле виновен. — Я расскажу тебе. Я расскажу тебе, Судия.
«Ангел» пополз за листочками. Инокентий услышал, как он ставит стул на место, садится и раскладывает их на коленях.
— Ты прости, что по бумажке. Там… — в Гоголевке, — я осознал, что мыслей у меня слишком, много мусора, много важного, но бесполезного для определённого момента…
Он прочистил горло и начал читать нараспев:
— «Здравствуй, кем бы ты ни был. Перед твоими глазами проносится вся моя жизнь — или, по крайней мере, осмысленная её часть. Для того, чтобы вывести эти мысли, я измарал тысячи листов бумаги… Признаюсь, друг (можно, я буду называть тебя другом? Если нет, мысленно подменяй это слово, каким захочешь), идея дистиллировать мою истину, вычленить из неё самое главное, возникла не сразу. Однажды глянув на эту кипу, я понял, что должен как-то мотивировать читателя взяться за мой труд. Но когда последняя точка легла на бумагу, подобно гире, уравновешивающей все предыдущие знаки, я понял: это было подсознательное желание отделить семена от плевел.
Где, друг, ты начинаешь мыслить? На кухне, готовя горячий ужин? Облегчаясь в сортире? Запершись в чулане от внешнего мира? Или когда спишь на уроках? А при каких обстоятельствах? Я начал мыслить, когда пьяная мать избивала меня, девятнадцатилетнего. Раньше я воспринимал её побои как справедливость… кару за мелкие детские грешки. Когда она избивала меня в те недели, когда я вёл праведную даже для ребёнка жизнь, я выдумывал причины, почему она это делает, или воображал себе, что она делает это, потому что наказание за предыдущий грех оказалось недостаточным. Но тогда, в девятнадцать лет, закрываясь рукой от её бутылки, я впервые задался вопросом «почему». Мозг привычно подобрал оправдание — накануне я занимался первым сексом, — но вдруг я понял, что она никак не могла об этом знать. Тело само уворачивалось от её кулаков — о, в него вбили все приёмчики моей матушки! — а я оборачивался на мою жизнь и понимал, что о львиной доле прегрешений она не знала и знать не могла. Мысль эта ожгла меня как кнут. Тогда я впервые сделал то, что мысленно отрабатывал годами: провёл контрудар и повалил её на грязный, неделями не мытый пол. Помнится, меня удивило, как легко это вышло. Она была удивлена не меньше меня. Её поросячьи глазки стали наполовину менее мутными. В них блеснул… позже я понял, страх, но не тогда. Я спросил, «почему?». Почему ты избиваешь меня? О-о, ожидал многое, я бы даже не удивился, если бы она сказала, что я приёмыш. Но она расплакалась.
ОНА БЕСПОМОЩНО РАЗРЕВЕЛАСЬ, ВЫТИРАЯ СЛЕЗЫ ГРЕБАНОЙ ГРЯЗЬЮ С ПОЛА!
Тварь ныла и извивалась в предчувствии ответных побоев… эта тварь думала, что я буду мстить. Она требовала, она умоляла, она говорила, что я достаточно взрослый… Когда до меня дошло, что́ она от меня хочет, я в ужасе отшатнулся… избить родную мать… её тело содрогалось от страха, когда она изрыгала эти мерзости… она даже от порезанного пальца визжит как свинья…
Я сбежал. В голове не укладывалось, что все, что она со мной делала, было не правосудием, а подготовкой к этому дню. Дню, когда я должен был отомстить. На следующий день, ночуя у друга, я догадался, что это были алкогольные бредни, и она избивала меня просто из-за своей жалкой жизни. Ещё я понял, что не она была мне правосудием, а я сам. Будь на моем месте кто-то другой, послабее духом и менее склонный к выдумыванию идиотских смыслов, оправдывающих её действия…