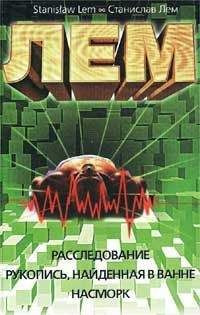Моя мать охотно осталась бы в Испании, но она так любила мужа, что без малейшего сожаления согласилась покинуть родину. С этой минуты единственным занятием отца и матери стали сборы в дорогу да наем кое-каких людей, которые могли бы среди Арденнских гор напоминать об Испании. Хоть меня тогда не было на свете, однако отец мой, нисколько не сомневаясь в моем появлении, подумал, что пора уже подыскать мне учителя фехтования. С этой целью он обратился к Гарсиасу Иерро, искуснейшему мастеру фехтования во всем Мадриде. Этот юноша, наскучив тычками, каждый день получаемыми на Пласаде-ла-Себада, охотно согласился на предложенные ему условия. Со своей стороны, моя мать, не желая пускаться в дальний путь без духовника, выбрала Иньиго Велеса, богослова, получившего образование в Куэнке, который должен был научить меня основам католической религии и испанскому языку. Все эти меры были приняты за полтора года до моего появления на свет.
Когда все уже было готово к отъезду, отец пошел проститься с королем и, по обычаю, принятому при испанском дворе, преклонил одно колено, чтобы поцеловать ему руку, но вдруг печаль так стиснула ему сердце, что он потерял сознание и в обморочном состоянии был доставлен домой. На другой день он пошел проститься с доном Фернандо де Лара, который был тогда первым министром. Дон Фернандо принял его очень приветливо и сообщил, что король жалует ему двенадцать тысяч реалов пожизненной пенсии со званием сархенто хенераль, что соответствует дивизионному генералу. Отец отдал бы полжизни за то, чтобы иметь счастье еще раз припасть к стопам монарха, но так как он уже простился, то должен был на этот раз ограничиться письменным выражением чувства горячей благодарности, которым проникся до глубины души. Наконец, не без горьких слез, он покинул Мадрид. Дорогу он выбрал через Каталонию, чтобы еще раз увидеть поля, на которых столько раз доказал свою отвагу, и проститься с несколькими старыми товарищами, которые командовали отрядами войск, расположенными вдоль границ. Оттуда через Перпиньян он въехал во Францию.
Вся дорога до Лиона прошла как нельзя более спокойно, но после Лиона, откуда отец выехал на почтовых, его обогнал легкий экипаж, который первым прибыл на станцию. Подъехав к почте, отец увидел, что у опередившего его экипажа уже меняют лошадей. Он немедленно взял шпагу и, подойдя к проезжающему, попросил его уделить ему минуту для разговора наедине. Проезжающий, какой-то французский полковник, видя, что отец мой в генеральском мундире, чтоб быть на высоте, тоже пристегнул шпагу. Оба вошли в находившийся напротив почты трактир и потребовали отдельное помещение. Когда они остались с глазу на глаз, мой отец обратился к проезжему с такими словами:
– Сеньор кавалер, ваш экипаж обогнал мою карету, стремясь во что бы то ни стало первым достичь почты. Поступок этот, как бы он ни был сам по себе незначителен, мне все же не по вкусу, так что потрудитесь дать объяснение.
Полковник, крайне удивленный, свалил всю вину на почтальона и дал слово, что сам в это дело отнюдь не вмешивался.
– Сеньор кавалер, – перебил мой отец, – я отнюдь не придаю этому обстоятельству большого значения и поэтому считаю достаточным драться до первой крови.
С этими словами он обнажил шпагу.
– Одну минуту, сударь, – сказал француз. – По-моему, это не мои почтальоны обогнали ваших, а наоборот – ваши отстали из-за своей нерадивости.
Мой отец немного подумал, потом сказал:
– Кажется, вы правы и, если бы вы поделились со мной этим соображением раньше, то есть до того, как я обнажил шпагу, то, несомненно, дело обошлось бы без поединка. Но теперь, сеньор, когда мы зашли так далеко, без небольшого кровопролития нельзя разойтись.
Видимо, полковник нашел довод вполне основательным; он тоже обнажил шпагу. Бой был короткий. Мой отец, почувствовав, что ранен, тотчас опустил острие своей шпаги и извинился перед полковником, что решился его затруднить, а тот в ответ предложил свои услуги и назвал место, где его можно найти в Париже, после чего сел в экипаж и уехал.
Отец мой сначала не обращал внимания на рану, но на теле его было столько следов прежних ран, что новый удар пришелся по старому рубцу. Шпага полковника вскрыла огнестрельную рану, в которой еще оставалась мушкетная пуля. Теперь свинец вышел наружу, и только после двухмесячных припарок и перевязок родители мои отправились в дальнейший путь.
Едва прибыв в Париж, отец поспешил навестить маркиза д'Юрфе (так звался полковник, с которым он имел столкновение). Этот человек пользовался большим влиянием при дворе. Он принял моего отца с исключительным радушием, обещал представить его министру, а также высшим французским сановникам. Отец поблагодарил маркиза и попросил только, чтоб он представил его герцогу де Таванн, тогдашнему председателю суда чести, желая получить более подробные сведения относительно этого суда, о котором был всегда высокого мнения, часто говорил о нем в Испании как о чрезвычайно мудром учреждении и всеми силами старался ввести его в той стране. Маршал тоже рад был познакомиться с моим отцом и рекомендовал его кавалеру Бельевру, первому секретарю суда чести и референдарию упомянутого трибунала.
Кавалер в один из своих частых визитов к моему отцу увидал у него летопись дуэлей. Это произведение показалось ему до такой степени единственным в своем роде, что он попросил позволения показать его господам маршалам, то есть членам суда чести, которые разделили мнение своего секретаря и обратились к моему отцу с просьбой разрешить сделать копию, которая будет передана на вечные времена в архив трибунала. Просьба эта доставила отцу невероятное удовольствие, и он с радостью дал согласие.
Подобное внимание все время услаждало моему отцу жизнь в Париже; но совсем иначе обстояло дело с моей матерью. Она приняла непоколебимое решение не только не учиться французскому языку, но даже не слушать, когда на нем говорят. Ее духовник Иньиго Белее все время едко высмеивал терпимость галликанской церкви, а Гарсиас Иерро кончал каждый разговор утверждением, что французы – трусы и недотепы.
Наконец родители мои оставили Париж и после четырех дней пути приехали в Буйон. Отец исполнил все требуемые формальности и вступил во владение имуществом. Кров наших предков был давно лишен не только присутствия хозяев, но и черепиц; дождь лил в комнатах совершенно так же, как на дворе, с той лишь разницей, что мощеный двор скоро просыхал, между тем как в комнатах лужи становились все больше. Затопление домашнего очага очень нравилось моему отцу, так как напоминало осаду Лериды, когда он провел три недели, стоя по пояс в воде.
Несмотря на эти милые воспоминания, он все же постарался поместить постель жены в сухом месте. В просторной гостиной был фламандский камин, у которого с удобством могли усесться пятнадцать человек. Выступающий свод камина образовывал как бы крышу, поддерживаемую с каждой стороны двумя колоннами. Дымоход заколотили и под крышей поставили постель моей матери, столик и кресло; а так как устье камина находилось на фут выше уровня пола, получился как бы остров, в какой-то мере недоступный для наводнения.
Отец обосновался в противоположном конце гостиной на двух столах, соединенных досками, и между обеими постелями был перекинут мост, подпертый посредине чем-то вроде плотины из ящиков и сундуков. Сооружение было закончено в день приезда в замок, и ровно через девять месяцев я появился на свет.
Во время горячих хлопот по устройству жилья отец получил письмо, переполнившее его сердце радостью. В этом письме маршал, герцог де Таванн, просил его быть арбитром в одном деле чести, которое оказался не в силах рассудить весь трибунал. Отца это доказательство исключительного расположения так обрадовало, что он решил по этому поводу устроить для соседей пышный бал. Но так как у нас не было никаких соседей, бал свелся к фанданго, которое станцевали мой учитель фехтования и главная камеристка моей матери сеньора Фраска.
Отец мой в своем ответном письме маршалу попросил, чтобы в дальнейшем ему присылали выписки решений трибунала. Эта любезность была ему сделана, и с этих пор в начале каждого месяца он получал большой пакет, который давал на четыре недели пищу для домашних разговоров в долгие зимние вечера
– у камина, а летом – на двух скамьях, прислоненных к воротам замка.
Когда я уже ясно дал знать о предстоящем своем рождении, у отца только и было с моей матерью разговоров, что о сыне, которого он ждал, и о выборе крестного отца. Мать высказывалась за герцога де Таванна или маркиза д'Юрфе; отец признавал, что это было для нас очень почетно, но опасался, как бы эти господа не подумали, что оказывают нам слишком большую честь. Подчиняясь вполне обоснованному чувству осторожности, он остановился на кавалере Бельевре, который, со своей стороны, почтительно и с благодарностью принял приглашение.