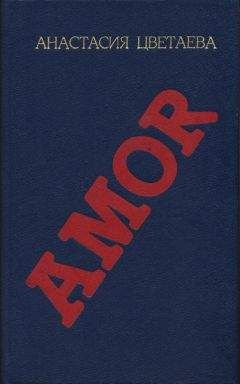Надо только осознать это крепко и дотерпеть до того часа, когда больше нечем терпеть… Она ведь знает себя — в прошлом (с Глебом, с Андреем)— оно станет будущим: она боится себя. Она же знает, что будет миг, когда она, не подымавшая глаз, их подымет — все выговорит — это будет прощальный взгляд. Слова будут — в прошлом (вот сейчас ещё — "прошлое"…). Морицев взгляд будет в ответ одним голым стыдом (равным — бесстыдству!). (Значит, совсем в глубине он не ценит её веры в него. Не стыдится стыда. Перестает (это будет — тогда!) быть Морицем! Тем, о ком поэму и повесть… О чем — их тяжкие отношения. Миг тот будет, в конечном счете, мигом цинического спокойствия: "Ты мне — никто. Я тебе ничем не обязан. Что мог — дал. Ты мне — не мать (моя мать — умерла)". "Это был — не мой сын!" — скажет в тот миг та, что в повести звалась Никой. А что в этот миг жизнь померкнет — не важно будет, в сущности, никому.
И тогда пусть — переброска. Или его внезапное назначение куда‑то, потому что нет устойчивой жизни в лагерях. Её, по крайней мере, жизнь в заключении подвластна законам бреда. Но двойной верёвкой жизнь её прикрепилась тут — к чужому ей человеку, от него мучаться, от его раздражения! в полной неразберихе чувств, забот, объяснений… что это все, как не бред?
И ещё — возмездие, закон: она искусилась Морицем, она преступила — душевно! — данный ею обет… Годы и годы отсекая личные чувства, раз осужденные ею для себя.
Что из того, что никогда бы не пошла на близость, — оттого ли, что тот обет, оттого ли, что не любит, от гордости? Какое‑то сумасшедшее веретено! Душа точно полна эфиру! Легкие — не воздуху, кислороду!
Глядела на дверь: войдёт. Матвей пришел с вестью, что его — к начальнику Управления. Он вскочил и пошел. Ника знала, о чем! Этап и "бронь". Он же подал заявление о ней! Независимо от результата — с п а с и б о! За то, что спешит о её судьбе. Она смотрела на дверь, чтоб не пропустить ни секунды его лица — ещё на пороге понять! Молча, она скажет ему взглядом: "Знаю, не удалось! Не волнуйтесь! Мне настолько важнее, что вы для меня делали сегодня, — чем… Вы не услышите от меня ни одной жалобы. Все приму, со всем справлюсь. Ты, со щитом или ты на щите, — мне одинаково дорог!!!"
Трудно ей было простить жизни, что, когда она на несколько минут вышла из комнаты — Мориц вошёл. Она не увидела его входящим. Он был на щите: распоряжение начальника лагерного строительства, с подписью его заместителя.
Ника была так счастлива, что от застенчивости (не показать счастья!) сморозила глупость о "заместитель начальнике". Тон её был вполне прозаичен. И тоном умученно-прозаическим победитель ответил: "Этого я не мог! Я не знаю, чего вы от меня хотите!"
В такие минуты такие недоразумения — трудно простить жизни! Мориц путем не поел: может быть, потому, что Матвей слишком грел еду — она же ходила по приказу Морица к прорабу. И вообще сейчас не хотела ухаживать за Морицем; при всех было приличней этого сейчас не делать. Понял ли он все так, как оно было? (Ведь он понял же её идиотскую фразу о "заместителе" — сказала, чтобы что‑то сказать, от счастья! — а он ответил в яви, в ужасной, ошибочной яви!..
До как он мог ответить иначе, раз её вопрос прозвучал? Кто, когда мог отвечать на противоположно подуманное? Получался — сумасшедший же дом…) Вечером он не ел почти. Был слишком устал и издёрган.
А потом опять была ночь.
Лето двигалось, и в бараках лагерных развелись клопы. Это мешало сну, значит — работе. И вообще — непорядок. Было решено провести борьбу — капитальную: окурить бараки поочередно — серой. Поднялась невообразимая кутерьма: укладывались, как при отъезде, мешки, рюкзаки, — и каждый из них должен быть просмотрен детально — убедиться, что ни одно, даже самое крошечное, насекомое не затаилось ни в белье, ни в бумагах, ни в книгах. Тут обнаружилась резкая разница в людях, это мероприятие исполнявших: одни — небрежно, другие — дотошно (надзор над соседом, от которого потом ты будешь терпеть), третьи — терпеливо, честно, подробно — все градации между. Иные спорили: откуда клопы? Кто‑то предположил, что их завезли с машиной старых досок, откуда‑то взятых, или из материалов разобранных старых бараков. Обвиняли, судили, кричали. Предстояло на сутки запереть барак, замазав окна и двери, оставив тлеющую в железных подвесных корытцах — серу.
Проблемой были продукты, женой Морица припасенные, Никой понемногу привариваемые ему к обеду и ужину из его московских посылок. Куда было спасти их — от серы? Запах серы проникнет в них — погубит… на нее кричали — она задерживает начало работ, рабочие придут — что, её ждать прикажете?
— Возится с какими‑то банками!
— Бабы — известное дело!
— Так до вечера провозиться можно!
— И все с этой серой — Морицевы фантазии! — Храбро, в отсутствие его орал Толстяк. — Ничего мы выносить его вещи не будем, подумаешь, барин какой — ушел, а мы…
— Он ушел на работу! — вспыхнула Ника.
— Мне не нужна сера, — кричал Худой.
Все, устав, устраивались на ночлег: кто — под небом, кто в соседних бараках. Упав меж мохнатых пахучих сосновых веток, затихла мирная ночь. Ещё много огоньков горят, едва начинают погасать…
И как только все стихло и все блаженно уснули — жизнь состроила этой ночи — гримасу: с пожарного пункта прибежал начальник охраны, перебудил всех, наорал — матом и, под угрозой разбить стекла в окнах, потребовал немедленно поту, шить серу! Никакие объяснения, увещевания не помогли. Не помог дерзкий спор с ним Морица, предъявившего письменное распоряжение из Управления (этот спор слушала из окна — временного жилья — женского барака полураздетая Ника, спрятавшись за занавеской). Первым её движеньем |было рвануться — туда, в спор. Иногда женщине — мягким! тоном — могло удасться то, что мужской аргумент и тон! привел бы к обострению. Но стыд стать смешной — вмешательством, в случае неудачи Морица — остановил её.
В конце каждой Морицевой фразы слышался упрямо, начальственно–монотонно голос неслушающего, только свое повторяющего: "Откройте двери, или я их взломаю!" (Иногда: "или выбью стекла!")
— Попробуйте, — гремел Мориц, стоя, разгоряченный сном и спором, в пижаме, в холодной ночи. ("Хоть бы пожарник устал спорить, разозлился бы, — думала Ника, — и Iвзломал двери сам! У них же есть маски!")
— Нет, — сказала она себе, — выдержи! Я прошу тебя — выдержи! Не иди туда! Вообрази, что тебя тут нет.
Запах серы был очень остер, а по небу шли темные струи. Их не было до сих пор!.. Дым, густой дым! Загоралось? Пожарник — не зря?! Она ускорила шаг, когда впереди, перебегая дорогу, метнулось что‑то в белом — от двери барака. Гремя ведром — и отфыркиваясь…
Ника похолодела: выбежавший из замазанного глиной барака из самой гущины серы — был Мориц!
Завидев её, он глубоко затянулся воздухом, и — голосом неузнаваемым, который он старался сделать прежним, стоявшему лениво Толстяку:
— А интересно. Совсем не дышал там… Знаете? — Он закашлялся.
— Вы были — там? — еле выговорила, переждав его кашель, Ника.
— Был! Я заливал серу. С Матвеем! — крикнул он беспомощно — и закашлялся снова.
— Да Матвей спит!.. — усмехнулся Толстяк недобро. — Чего там!..
Ника больше не слыхала ничего. Она огибала барак, шла куда‑то — от звука кашля: сейчас он не примет никакой лекарственной помощи! От нее — и при них! — ни за что…
— Этот кретин такой хай поднял! — сказал, появляясь откуда‑то полураздетый Худой. — Никакой опасности не было! ц зачем вы, больной человек…
— Я тоже так думал! — хрипло отвечал Мориц. — Я ошибся: там загорелась сера! Как вы думаете, если бы барак вспыхнул, — вы видели клубы дыма над крышей? Кто бы отвечал за пожар? После моего отказа открыть двери! Я больной человек, да, — но я, я человек… (кашель мешал говорить, а если бы…)
— Ну пусть бы он разбивал стекла — кричал Худой. — Пес с ним, зачем вы‑то…
Мориц махнул рукой — на него, на кашель, все продолжавшийся, и пошел прочь от барака, махая и другим — уйти…
Ника шла прочь от барака — в другую сторону, не от дыма, а от людей и от Морица, не зная, куда идёт. "В одну минуту можно прожить целую жизнь", — говорит где‑то автор "Анны Карениной", а прошло много минут, пока Ника вернулась в комнату, пробродив по мосткам и сходя с них, спотыкаясь и "вытирая морду", как она мысленно зло о себе сказала — про свои поздние, бесполезные слезы, — платка не было, шелковой шапочкой ("морда" была вся в слезах и опухшая), а они всё шли и всё шли. О чем она плакала? о вере ли своей в человека, в его обещание, о том ли, что заставила себя простоять у окна, чтобы не испытать перед людьми унижения — ценой которого она бы — может быть, добилась того, чтоб каверна не вскрылась, легкое бы не наполнилось серой! Может быть, сегодня не будет у него кровохарканья, ни завтра, но оно будет: через месяц, может быть? О том ли, что её тогда с ним не будет — о той ли женщине, которая мучается в разлуке с мужем и бессильно дрожит издали — "за климат, губительный, по врачебным сведениям, даже для второй стадии ТБЦ"? О том, что — это третья? О брате, умершем от этой болезни… Может быть, о той ночи своего детства, когда, подбежав ночью к матери, увидала чайную чашку с чем‑то темным, как черный кофе, но красней?.. "Кровь, — хрипло сказала мать, — позови кого‑нибудь… за доктором!" Это было в марте — а в июле мать умерла. Она вспомнит все это — потом. Сейчас она уж не плачет. Иссякло! Это хорошо, что так совершенно кончается. Когда не ищешь ответов — потому, что вопросы кончились. Все так ясно. Если б Мориц сделал это — спасая оттуда ребенка… Если б он погиб из‑за этого даже — ради ребенка! — она бы в слезах отчаяния Утешала бы себя тем, что иначе не мог — вошёл, чтоб спасти! Долг чести — и каверна не выдержала… Рана бы её вечно сочилась, но возразить нечего! Тут… Ника стоит близ барака у окна, за которым час назад стояла так по–другому, полная веры в данное человеком обещанье, — и уже нет человека… Как просто! Туда вошёл комок нервов, клубок петушиного гонора (надоело ему слушать крики пожарника!). О, если бы тут был Виктор, он бы не бросился — сам?!