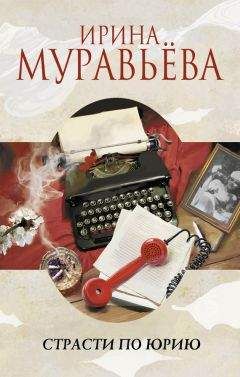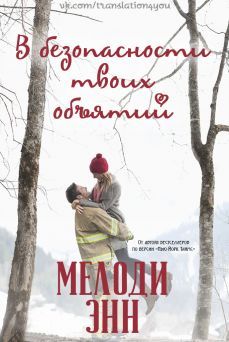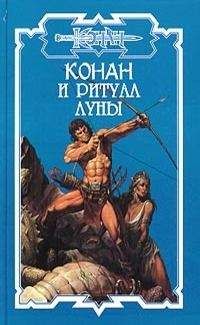Ознакомительная версия.
Ирина Муравьёва
Страсти по Юрию
Никто не ожидал, что в декабре зацветут розы. Бутоны их, уже слегка сморщившиеся от ноябрьского ветра — хотя и теплого, но все же порывистого и тревожного, как и полагается ветру, несущему в пышных, огромных раздутых губах, волосах, крепких крыльях суровую весть о грядущей зиме, — бутоны зажглись и смущенно раскрылись. Да что там бутоны! Земля вся прогрелась — вот главное. Земля разомлела настолько, как будто бы завтра вся зазеленеет. А ей не цветения ждать полагалось, а колких и крепких объятий мороза.
Вот так и с людьми. Не смерти ждет человек и даже не старости, хотя вокруг сколько примеров: вон с палкой какой-то сутулый прошел, а вон понесли на носилках старуху, — и все же, проснувшись поутру, увидев, как синью охвачено небо, человек начинает думать о том, что он никогда не умрет, никогда не состарится, и думает только об этом, хотя своих мыслей не осознает: они, как дыхание, неощутимы. А если предчувствие вдруг и сожмет уставшее сердце, то это не тогда случается, когда мужчина или женщина средних лет, но все еще полные сил и желаний, пьют, скажем, свой утренний чай или кофе и им нужно быстро одеться, бежать (кому на работу, кому в магазин!), а дел, и забот, и звонков впереди так много, что дня никогда не хватает, — не в эти минуты сжимается сердце, а ночью, когда человек крепко спит — так крепко, что даже рука затекает.
Варвара Сергеевна часто видела себя стоящей на краю обрыва. Весь смысл этого мрачного сна заключался в том, что спастись можно только при одном условии: не оглядываться, не обращать внимания на влажную и жаркую волну — дыханье чужой притаившейся жизни, враждебной по сути, несущей ей гибель. Она стояла на выскальзывающем из-под ноги камне, не шевелясь, закат все ярче и ярче разгорался перед ее слезящимися глазами, и в этом мучительном свете чернела одна неподвижная, длинная тень. Стояла, пока этот сон не смывало внезапно нахлынувшей грязной водою. Утром она просыпалась с мешками под глазами, с затекшей левой рукой, подходила к зеркалу, быстро растирала продолговатые щеки, широко раскрывала черные, отливающие синевою глаза и часто до слез ужасалась тому, как гаснет и меркнет ее красота. Еще бы: одни неприятности. Жизнь походила на распластанную шкурку под острым ножом скорняка, но шкурка была вся живой, ножом ее резали с кровью.
Спасение было одно: быть с ним, и пусть он защищает. И он защищал, хотя если уж говорить о нем, то он-то и был скорняком, он и резал. Варвара во многом вела себя так же, как в детстве, и ей часто пеняли на эту ее ребячливость. Ребячливость-то и спасала. Так же, как в детстве, когда она пряталась в самые далекие уголки, завешивалась какой-нибудь простыней, затаивалась, и ужас, что вот-вот найдут, все разрушат, сменялся восторгом, и новый, из жгучих огней пополам с чернотой и кровью, шумящей в ушах, чудный мир, в котором ей было тепло до истомы, валил, обволакивал и уносил, как волк на себе уносил Василису, — вот так и сейчас: она прибегала к нему в мастерскую, завешивала окна, срывала с себя всю одежду и быстро, как будто за ней кто-то гнался, ныряла к нему, в его жадные руки. Всякий раз, когда они в душной этой мастерской опять, в сотый раз, без единого звука — лишь мощно шумящая кровь в голове — сливались в одно существо и казалось, что ног слишком много, а рук ни одной, она начинала дышать глубоко, свободно, прекрасно, не так, как всегда. Она поднималась над грешной землею, и ребра ее холодели внутри, как будто по ним провели очень быстро осколком слоистого льда.
Юрочка, знаменитый писатель Юрий Николаевич Владимиров, был Вариной самой заветной любовью. Все прежние ее увлечения и даже два брака по сравнению с тем, через что она проходила сейчас с ним, казались набросками, серыми слепками.
А жизнь начиналась непросто. Варвара была такой красивой, что в детстве, когда бабушка шла за руку с ней по бульвару, всегда кто-нибудь приставал к ним, заговаривал, мешал разговору. Бабушка относилась к подобным приставаниям болезненно, и эта болезненность передавалась Варе. Ей было лет восемь, когда за бабушкой увязался лохматый, в большом грязном шарфе молодой человек, умоляя привести девочку на киностудию «Мосфильм» и показать ее Рубену Исхаковичу. Бабушка наотрез отказалась идти на киностудию, и тогда лохматый встал на колени и так, не вставая, по свежей траве, шел долго за ними и что-то покрикивал. Они убежали от него и бежали долго, пока не оказались в безопасности, спрятались в «Гастрономе», где Варя выпила два стакана томатного сока с мякотью, предварительно размешав в этом соке пол-ложки серой грубой соли, насыпанной горсткой на блюдце. С годами она поняла: все эти аханья, цоканья, прищелкиванья костяшками, посвистывания, вспышки зрачков, которые липли к лицу, — все это: «мужчины». Когда она начала сама ездить на метро в школу, ей приходилось сразу же доставать из портфеля учебник и делать вид, что она не может от него оторваться, хотя ото всех этих знаков внимания то строчки сливались, то буквы крошились. И было совсем уже гадко и стыдно, когда у них засорилась раковина на кухне, пришел кисло пахнущий ржавчиной слесарь, опустил свои волосатые ручищи прямо в гнилую грязную воду, а Варя почему-то стояла и смотрела, не могла оторваться, пока он не оглянулся вдруг воровато и не выдохнул ей прямо в лицо: «Меня бы в такую… запусти, так я и не вылезу!» Она не знала слова, которое растопырилось внутри его вороватой и непонятной ей фразы, но сразу выскочила из кухни, как будто ее обварили, и плакала долго, закрывшись в уборной.
Во дворе их дома на Смоленской вечно торчала шпана, поэтому Варвару не выпускали гулять вместе с другими девочками, которые так и льнули к этой шпане и всячески пытались обратить на себя внимание самых что ни на есть отпетых хулиганов с такими веселыми, добрыми лицами, что плакать хотелось от жалости: все ведь сопьются. Тринадцатилетние Варины подруги не знали, что парни сопьются, им просто хотелось тепла. Хулиганы излучали тепло, такое ровное и заманчивое, как будто внутри их горели рефлекторы, и жемчужная от мороза слюна, сплюнутая на снег их красными, как клюква, губами, была красивее, чем брошка на платье. Они исподлобья смотрели на девочек, дивясь их невинности, громко шутили, а девочки, вовсе не все понимая, смеялись их шуткам и жались друг к дружке. Это были простые девочки из простых семей, по воскресеньям их матери в цветастых халатах, тапочках на босу ногу и с огромными от бигуди головами под газовыми платочками выносили помойные ведра и делали это с размахом и весело. Варя стояла у окна и смотрела на то, как чужие полуголые женщины с багровыми от мороза лицами и шеями скользили почти босиком по дорожке, протоптанной к бакам, потом поднимали тяжелые ведра, и полы цветастых халатов, как птицы, шарахались в разные стороны.
Ознакомительная версия.