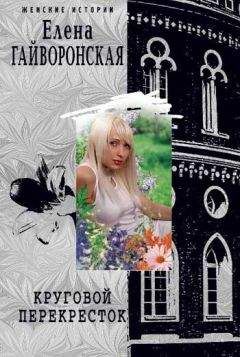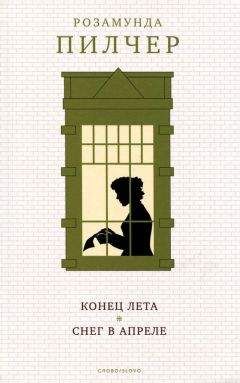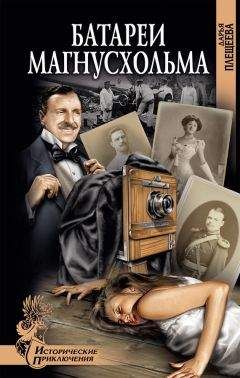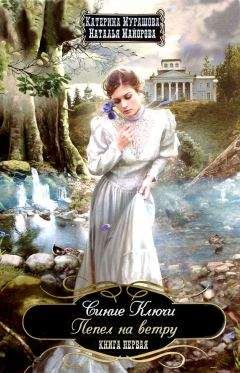Ознакомительная версия.
Елена Гайворонская
Круговой перекресток
Моему поколению. Всем тем, кто в девяностых сумел не только выжить, но и сохранить себя
Предупреждение автора: несмотря на возможное сходство отдельных событий и персонажей, данный роман не является автобиографическим.
Выглянуло солнце. Нестерпимо яркое, почти весеннее. Еще утром валил снег, а сейчас все вокруг преобразилось, засияло, засветилось празднично, точно на заказ…
Я родом из полуподвала. Самого что ни на есть настоящего. Жилище только называлось первым этажом. Окна нашей норы выходили на север, в них никогда не проникал солнечный свет, зато исправно вкрадывалась сырость. Просачивалась из лохматых кустов сквозь щели в рассохшихся оконных рамах, проползала по стенам, оставляя на обоях уродливые синие кляксы, похожие на гнойники, карабкалась на потолок ванной, оседала там склизким черным грибком. Сырость не покидала квартиру даже в отопительный сезон, когда еле теплились батареи. Тепло поступало с чердака, змеилось по поржавелым трубам пяти этажей и, пока добиралось до полуподвала, иссякало в пути, нам перепадали его жалкие остатки. На зиму мама заклеивала старые кособокие рамы, но ветер все равно проникал сквозь поролон и бумагу, гулял от стены к стене, так что приходилось спать под тремя одеялами, днем носить теплые рейтузы и делать уроки в перчатках. После того как к соседям пробрались воры, родители поставили на окна решетки, получилось совсем грустно, похоже на тюремную камеру, и я уже не могла влезать в окно, если забывала ключ. На окнах висели жуткие бордовые шторы и порыжевший от времени тюль, который бабушка с маниакальным упорством отказывалась сменить на новый. На подоконнике росли цветы-мутанты. Те, которые не погибали без света. Они становились тощими, жилистыми, с длинными стеблями и тонкими полупрозрачными листьями, прилипали к стеклу, немым укором взирали на улицу в надежде поймать осколки солнца, отраженные от стекол дома напротив.
Я росла настоящим дитем подземелья. Тонкой и бледной, болезненной, вечно простуженной, кашляющей и хлюпающей носом. Умудрялась цеплять мыслимые и немыслимые детские хвори по нескольку раз в месяц. Со мной сидел дед Георгий, чьи представления о дошкольной педагогике были весьма относительны. «Что нужно ребенку для нормального развития? – спрашивал он и сам себе отвечал: – Свежий воздух, общение и книги». Дед воплощал теорию на практике. Мы гуляли по парку в компании таких же «несадовских» детей, их бабушек, дедушек, мам и нянь. А когда привязывалась очередная простуда, дед открывал книжный шкаф и начинал исследовать его содержимое.
Книг в доме было достаточно. Георгий собирал библиотеку скрупулезно, томик к томику. Вкусно пахнущие свежим клеем и новенькой хрустящей бумагой подписные издания классиков и огромные иллюстрированные энциклопедии соседствовали на полках со старенькими потрепанными корешками сборников поэтов Серебряного века или опального Бердяева, найденными в букинистических лавках. Во времена тотального дефицита книги стремительно появлялись в любой семье, считающей себя интеллигентной, однако далеко не в каждой, попав на полку, глянцевые тома покидали ее хотя бы раз. Стеллажи с книгами в квартирах становились модной частью интерьера, косвенно намекали на интеллектуальный уровень владельца, подчас не отличавшего Гоголя от Бебеля, Гюго от Камю и уверенных, что Фолкнер – порода собак, а Фейхтвангер – город в Норвегии. Однако в нашем доме книги использовались по прямому назначению. Дед составлял программу на собственный вкус. На смену сказкам приходили любимый Георгием Лев Толстой и «История России с древнейших времен» Соловьева. Когда надоедало слушать, я брала букварь, и мы принимались читать вместе. Потом я начала читать сама и уже не смогла остановиться…
Подхватив очередную книжку, я с ногами забиралась в старое кресло, закутывалась в теплый клетчатый плед, и весь остальной мир переставал существовать. Если поворот сюжета чем-то не устраивал, я отрывалась от страницы, закрывала глаза и придумывала свое продолжение. Разрозненные картинки складывались в длинную ленту, оживали в параллельно существующем мире. Злодеи исправлялись, умершие оживали, разлученные соединялись, и все жили долго и счастливо. Это был иной мир, в нем было много солнца и света, а если приходила зима, непременно с пушистым белым снегом. В той реальности были высокие разноцветные дома, с огромными светлыми комнатами, кружевными занавесками на окнах, душистыми цветами на подоконниках. Взрослые там не ссорились, мальчишки не дрались. Даже, наверное, были принцы – какая девчонка не мечтает о своем персональном рыцаре, который вдруг однажды материализуется с пожелтевших страниц, чтобы спасти свою единственную, неповторимую принцессу из постылого заточения…
Это был мой мир, только мой, порой мне не хотелось оттуда выходить. В нем у меня была подружка – девчонка, немного похожая на меня, я называла ее Алекса. Алекса появлялась только тогда, когда ей самой хотелось. Она бывала разной. То грубоватой девочкой с мальчишеской стрижкой, зычным голосом и грацией бегемота, не признававшей авторитетов и все на свете подвергавшей сомнению и критике, не верящей никому и ничему, и уж конечно же принцам Страны Советов. А то вдруг прикидывалась романтичной книжной барышней, кротким глазастым созданием с огромными бантами в белокурых локонах, наивным, доверчивым и возвышенным, малость не от мира сего, праправнучкой воина, последним потомком уничтоженного революцией рода, и это родство не давало ей плакать, когда хотелось… Ей нравилось меняться, удивлять, шокировать. А я завидовала тому, что она это может, а я – нет, и в глубине души мечтала стать такой же, как она, – загадочной, независимой, непостижимой, примерить несколько личин, переиграть множество ролей, перепробовать несколько судеб… И при этом остаться собой. Нет, я не хотела стать актрисой, мне не нравился театр – там все было понарошку. Мне хотелось реальности, иной, параллельной, невозможной…
А потом я стала видеть тексты… В начале было слово. Оно было выпуклым, осязаемым, теплым, живым, исполненным внутренней гармонии и еле слышимой мелодии. Каждое слово звучало по-своему. Слова, как ноты, собирались в длинную цепь и рождали в голове уникальную, неповторимую музыку. Я брала бумагу, погрызенную ручку и пыталась записать пляшущие перед глазами строчки, но рука не успевала. Фразы путались. Мелодия рвалась, разрушалась, перемещенные на бумагу слова теряли свою гармоничную выпуклость, становились плоскими и скучными, шероховатыми, текст выходил корявым, царапал глаз и слух… Но иногда получалось. Не то чтобы очень хорошо, но и не совсем плохо. Слышалась музыка, еще робкая, неумелая, но все-таки это была музыка, а не гадкая какофония звуков. Я перечитывала созданные мною строчки, и сердце билось учащенно: неужели это написала я?
Ознакомительная версия.