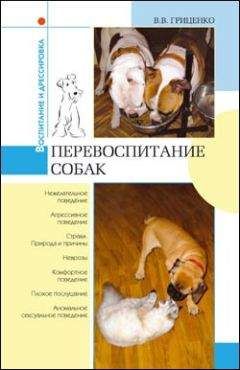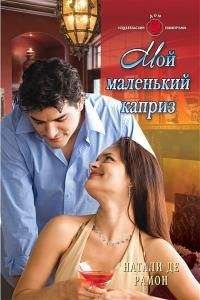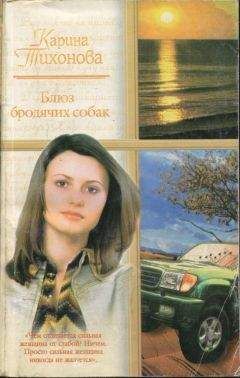Натали де Рамон
За первого встречного?
Посвящается моему отцу Жану-Жозефу и моей крестной Аньес
Глава 1,
в которой я люблю книжные магазины
Я люблю книжные магазины. Это у меня от дедушки. Мой дедушка говорил: «Если бы я не был маркизом и не держал лошадей, я завел бы книжный магазин. Свеженькие книжки из типографии — они как маленькие жеребята. Пугливо и доверчиво идут они в руки первого встречного, мечтая обрести в нем друга и покровителя». Я почувствовала на себе пристальный взгляд и, взяв с полки какой-то том, осторожно обернулась.
У противоположного стеллажа стоял не очень высокий темноволосый парень и смотрел на меня как на божество. Одно время я частенько сталкивалась с ним то в кафе, то в читальном зале. «Книги из библиотеки похожи на бродячих собак, которые давно потеряли надежду, — считал дедушка. — Они виновато поджимают хвост, когда ты обнаруживаешь вырванные страницы…» Наши взгляды встретились, и, представляете, парень густо покраснел! Я увидела его виноватую улыбку, а затем он торопливо отвернулся, неловко задев своим широким плечом стеллажи, и принялся старательно изучать корешки книг.
Я тоже занялась своей полкой, раздумывая, может быть, мне самой заговорить с ним? Я снова повернула голову, но парня уже не было, А в руках я, оказывается, держала папин труд «Европа у портного». Да, кстати, меня зовут Клео де Коссе-Бриссак, и, соответственно, известный кутюрье и знаток костюма Леон де Коссе-Бриссак и ла Тремуй — это мой папа. Лучше я вам это скажу сразу, какой смысл темнить, что я настоящая французская маркиза, но учусь в Оксфорде и окончательно перебралась к бабушке в Англию после того, как у папы безнадежно съехала крыша. Ну не надо, я знаю, что говорить так про родителей — моветон, только посудите сами.
Три года назад моя мама погибла в авиакатастрофе. Не стоит извиняться, вы же не обязаны это знать, а я не обязана высказывать вам свои чувства по этому поводу. Скажу только, что мама совершенно не собиралась меня бросать, просто самолет упал в океан. А вот дедушка мог бы обо мне подумать и позаботиться о своем здоровье. Потому что, после того как он случайно налетел лбом на створку полуоткрытой двери и у него в голове сдвинулся осколок, засевший там со времен, когда дедушка воевал в эскадрилье «Нормандия-Неман», он вполне бы мог полежать в больнице, все-таки врачи хоть что-то да соображают, а не тащиться с нами на машине в Аскот. Дескать, Клео будет интересно посмотреть на королевские скачки и британские традиции. Из-за этих традиций меня не хотели пускать на ипподром в брюках. Ладно, в машине нашлось платье, правда, я предпочитаю брюки, потому что у меня рост сто семьдесят три и в длинной юбке я похожа на утопленницу. Я ношу только мини. Конечно, я выглядела полной идиоткой с голыми коленками и в шляпке с цветочками, все таращились на нас с папой, а пресса — старательнее всех.
Я-то думала, что папаш начнет, как обычно, позировать пергд камерами, он же это любит страшно. Вы наверняка видели во всяких журналах, как он обнимается с шоферами и с конюхами, дескать, такой я маркиз демократичный, вот я розы подстригаю, вот вкалываю на винограднике голый по пояс. Как же, работает он на винограднике, это чтобы все знали, какая у него фигура. Хотя, честно говоря, фигура у моего папы что надо, и танцует он просто невероятно, и машину водит, и на лошади…
Ладно, я не собираюсь рекламировать стати родного отца, я рассказываю про то, как я поняла, что он тронулся. Потому что вместо того, чтобы выгибать дугой брови и демонстрировать белоснежность зубов, папаш стал отмахиваться от фотографов и загораживать меня спиной. Ну и получил: на следующий день во всех газетах красовались наши несуразные снимки с комментариями, что я — новая пассия маркиза-кутюрье. И потом, вместо того чтобы дать нормальное интервью и поделиться творческими планами, папаш ночью, только что не по крыше, вывел нас с дедом из отеля, и мы зачем-то сбежали из Аскота. А в тоннеле под Ла-Маншем репортеры гнались за нами как за принцессой Дианой.
И тогда папаш не только окончательно уверовал в свое величие, но и проникся ко мне несказанными родительскими чувствами, а до этого его мало интересовал сам факт моего наличия. Если вы спросите его: «Мсье, скажите, сколько лет Клео?» Кстати, он любит, чтобы к нему обращались именно «мсье», это все игры в простоту и демократичность, а на самом деле он сноб каких поискать. Так вот, он сначала будет долго рассказывать вам, как их с мамой познакомили в трехлетнем возрасте и она разревелась из-за того, что он уселся на ее горшок, а потом туманно заметит, что Клео уже взрослая. Хотя, это только если он вообще вспомнит, кто такая Клео.
Думаете, мы с мамой часто его видели? Как же! Он торчал в своем драгоценном Доме «Маркиз Леон» в особняке Кастель Беранже на улице Ларонтин. Название его Дома моды тоже подчеркивает исключительно демократические устремления моего папаш. Нет, в Париже он именно работал: докторский диссер, семь книг по истории костюма, множество дефиле, одежда к фильмам. И все это болтовня про его любовниц.
Мы с мамой никогда не верили в это. Любовницу все-таки нужно любить, а папа способен любить только самого себя да отчасти свой высокопортняжный бизнес — как средство еще более возвышенной любви к себе. Даже если он и приезжал к нам в Монтрей-Белле «поработать на природе», то это превращалось в кошмар. Сначала три дня катаний на лошадях, пикников, барбекю и малоспортивных игр в окружении толп прихлебателей и журналистов, а потом он запирался в каком-нибудь кабинете, и все должны были ходить на цыпочках: ах, мсье маркиз работают! А мсье маркиз через полчаса уже приказывал тащить столы, кульман, ноутбуки, бумаги, книги, etc. в другой кабинет или в гостиную, потому что, видите ли, солнце смеет падать не туда или под окном нагло поет птица, не имеющая прав на то, чтобы мешать творить Леону Великолепному, и де, и ле, и еще десяток имен, которые в состоянии запомнить только наш дворецкий Белиньи. Папаш делает вид, будто ему не нравится обилие имен и титулов, а на самом деле откровенно кайфует. А я? Хорошо еще, что меня не вызывают к доске, пятнадцать минут перечисляя фамилии…
Так вот, после поездки в Аскот папаш не отпускал меня ни на шаг, ревнуя, похоже, даже к душу и к унитазу. А по вечерам заставлял сидеть рядом с собой у камина и внимать его излияниям родительских чувств, все более сумбурным по мере
Того, как он надирался. А надираться он стал регулярно после того, как, вернувшись из Аскота, через несколько дней умер дедушка. И я до глубокой ночи слушала: «Ты моя единственная, ты моя дочечка, никого родней тебя у меня нет… Вот сидят папуся с дочусей, со своей сиротиночкой…» Часам к трем он отключался, Белиньи накрывал его пледом, а я шла в свою комнату и от злости не могла уснуть до утра.